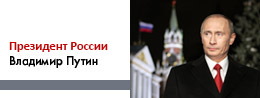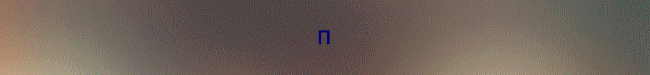СОЛЖЕНИЦЫН Александр Исаевич (1918-2008)
 Лауреат Нобелевской премии, лауреат Государственной премии РФ, академик Российской академии наук
Лауреат Нобелевской премии, лауреат Государственной премии РФ, академик Российской академии наук
Родился 11 декабря 1918 года в Кисловодске. Умер 3 августа 2008 года в Москве.
Отец — Солженицын Исаакий Семёнович (1891–1918), из семьи зажиточных ставропольских крестьян, окончил гимназию в Пятигорске, учился на филологическом факультете Харьковского, затем Московского университетов. В 1914 году добровольцем ушел на Первую мировую войну, имел офицерское звание и боевые награды. Вернувшись с фронта, погиб, за полгода до рождения сына, от несчастного случая на охоте. Мать — Солженицына Таисия Захаровна, урожд. Щербак (1894–1944), дочь кубанского землевладельца из крестьян, до замужества четыре года училась в Москве, на сельскохозяйственных курсах кн. С.К. Голицыной; овдовев, воспитывала сына одна, зарабатывая на жизнь машинописью и стенографией; подвергалась увольнениям и сокращениям в связи с «соцпроисхождением». Первая супруга — Решетовская Наталья Алексеевна (1919–2003). Вторая супруга — Солженицына Наталья Дмитриевна, урожд. Светлова (род. в 1939 году). От второго брака у Солженицына трое сыновей: Ермолай (1970 г. рожд.), Игнат (1972 г. рожд.), Степан (1973 г. рожд.). Внуки: Татьяна, Екатерина, Дмитрий, Иван, Анна, Андрей.
«Я родился прямо в Гражданскую войну, а первые детские впечатления — ранние годы советской власти». Отчий дом Солженицына с первых лет стал территорией особой опасности. Во время Первой мировой отец служил в прославленном Гренадерском корпусе, так что загадка о его судьбе казалась простой. «Может быть, к лучшему умер отец / В год восемнадцатый смертью случайной: / С фронта вернувшийся офицер, / Кончил был он в Чрезвычайной». Царские ордена отца могли стать грозной уликой против его вдовы и сына, их пришлось закопать в землю. Даже фотографий военного времени, где подпоручик-артиллерист мог быть запечатлен в гренадерском мундире, Саня никогда не видел — мать сохраняла только студенческие снимки мужа. «Царский, не царский, — слово “офицер” было леденящим сгустком ненависти, его нельзя было вслух произнести среди людей, это была уже — контрреволюция. Незадолго перед тем офицеров уничтожали десятками тысяч подряд, не разбираясь, топили баржами». Ребенок рос, опекаемый семейством Щербаков — дедом, бабушкой, тетями и дядями. Зимой 1925/26 года мать забрала сына в Ростов, где сняла крохотную комнату и получила работу. «Книг еще в сумке я в школу не нашивал, / Буквы нетвердо писала рука, — / Мне повторяли преданья домашние, / Я уже слышал шуршание страшное — / Черные крылья ЧК. / В играх и в радостях детского мира / Слышал я шорох зловещих крыл. / ...Где-то на хуторе, близ Армавира / Старый затравленный дед мой жил». Такими запомнились Солженицыну-внуку детские годы и его несчастный дед, чья трагическая история предстанет в поэме «Дороженька». Захар Щербак стал еще одной детской тайной Солженицына, опасным пунктом его социальной анкеты. «В шесть лет я твердо знал, что и дедушка и вся семья преследуются, переезжают с места на место, еженощно ждут обыска и ареста. Чекисты на моих глазах уводили дедушку (Щербака) на смерть из нашей перекошенной щелястой хибарки в 9 квадратных метров».
В самом раннем детстве мальчику был дан грозный знак, с которого и началась его сознательная жизнь. Зима 1921/22 года, Кисловодск, храм Св. Пантелеймона-целителя, где был крещен Саня. «Я в церкви. Много народа, свечи. Я с матерью. А потом что-то произошло. Служба вдруг обрывается. Я хочу увидеть, в чем же дело. Мать меня поднимает на вытянутые руки, и я возвышаюсь над толпой. И вижу, как проходят серединой церкви отметные остроконечные шапки кавалерии Буденного, одного из отборных отрядов революционной армии, но такие шишаки носили и чекисты». Прервав литургию, с топотом и грохотом пройдя в алтарь, чекисты занялись грабежом — тогда это называлось изъятием церковных ценностей в пользу голодающих. Мрачная картина подавления и уничтожения Православной Церкви в России стала лейтмотивом детства Солженицына — он видел, как рушат церковные алтари, как беснуются воинствующие безбожники вокруг пасхальной службы, вырывая у верующих свечи и куличи, как сбрасывают колокола наземь и долбят храмы на кирпичи.
9 ноября 1927 года Саня поступил во 2-й класс ростовской школы № 15 и вскоре уже сам испытал участь гонимого — за то, что продолжал ходить с матерью в последнюю не закрытую еще городскую церковь и за то, что носил на шее крестик. Детская набожность и искренняя вера вытеснялись из жизни; их не терпели красная пионерия и звонкая комсомолия. Охлаждение и отход от веры были неминуемы — детская привязанность к церкви, так же как слова молитв и имена святых, уходили на дно души, в глубокое сердечное подполье, и жили до поры до времени только там. «“В бой за всемирный Октябрь!” — в восторге / Мы у костров пионерских кричали... — / В землю зарыт офицерский Георгий / Папин и Анна с мечами. / Жарко-костровый, бледно-лампадный, / Рос я запутанный, трудный, двуправдный». Так писал Солженицын в поэме «Дороженька» о раздвоенном, расколотом мире своего детства и отрочества, когда подпольная правда все же значила в его жизни много больше, чем самые громкие пионерские лозунги. И почти все школьные годы он считал себя противоположным строю и государству и, учась скрывать свои убеждения, внутренне сопротивлялся советскому воспитанию. Эта вынужденная двойственность духовной жизни, соревнование пионерских лозунгов с семейными драмами составила главную тайну трудного — «запутанного и двуправдного» — подростка Солженицына. Но была еще одна тайна. В конце безлюдного тупика, в крутом и грязном каменном провале стоял маленький дощатый домик, где у них с мамой была крохотная каморка, первое Санино ростовское жилье («Плитняк потресканный, булыжник, люки стоков: / В дожди и в таянье со всех холмов окружных / Сюда стекались мутные потоки»). Каждый день по дороге в школу и обратно он шел либо бежал вдоль глухой стены, мимо длинной вереницы женщин, которые стояли тут часами. И все знали, что это задняя стена двора ОГПУ, и печальные жены заключенных, «под тихий говор, жалобы и плач», обреченно ждали своей очереди с узелками тюремных передач. «Громада кирпича, полнеба застенив, / Мальчишкам тупика загородила свет. / С шести и до пятнадцати в ее сырой тени / Я прожил девять детских лет».
Детство и юность проходили под знаком опасности. И все же Солженицын прожил двадцатые и тридцатые годы в духе, присущем всей молодежи его времени, — конечно, скромной и целомудренной («без вина, без девушек сухая юность наша»), сосредоточенной на велосипедных походах, шахматных страстях, футболе, танцах, художественной самодеятельности, библиотеках, выпускных и вступительных экзаменах. При всем своем остром внимании к политическим процессам эпохи, при интуитивном ощущении официальной лжи, он сокрушался позднее, что не смог сопоставить сталинские процессы с универсальной политической тенденцией. «Я детство провел в очередях — за хлебом, за молоком, за крупой (мяса мы тогда не ведали), но я не мог связать, что отсутствие хлеба значит разорение деревни и почему оно. Ведь для нас была другая формула: “временные трудности”. В нашем большом городе каждую ночь сажали, сажали, сажали, — но ночью я не ходил по улицам. А днем семьи арестованных не вывешивали черных флагов, и сокурсники мои ничего не говорили об уведенных отцах». То, что он станет (должен стать!) писателем, Солженицын понял так рано, как рано вообще дети могут задумываться о своем будущем. Маленький провинциальный школьник отроду не видел ни одного живого писателя, но непонятным образом почему-то решил, что непременно станет им. «В девять лет я твердо решил, что буду писателем, — хотя что я мог писать? Но вот я чувствовал, что должен что-то такое написать. Откуда в нас появляется такое — это загадка, загадка».
Само существование литературы, физическое бытие библиотек и книг для чтения, журналов, где печатаются стихи и рассказы, вызывало желание быть причастным к их созданию. Читать его тянуло жадно с самого раннего детства. Казалось, он читал всегда, — время, когда бы он читать не умел или когда его только учили чтению, не запомнилось вовсе. Домашние книги, изученные вдоль и поперек, создали прочную базу читательских привязанностей, так что в ту пору, когда протоптались дорожки в городские библиотеки, Саня был вполне искушен в своих симпатиях и пристрастиях. У него развивался не только вкус, но и чуткое ухо — к литературным новостям, книжным историям. Начав «пробовать перо» в 1929-м пиратскими повестями, к шестнадцати годам Саня Солженицын был, по школьным понятиям, опытный, литератор, работающий в разных жанрах, имеющий основательный творческий багаж, который прошел апробацию в своих собственных рукописных журналах (детском самиздате).
Весной 1934 года (Саня заканчивал восьмой класс) в школьных тетрадках стартовало рукописное «Полное собрание сочинений Александра Солженицына». Силен был интерес юноши и к театру. Оканчивая школу, он решил поступать параллельно в Ростовский университет (с золотым аттестатом) и в театральную студию Ю.А. Завадского, с аттестатом за семь классов. Театральное поприще, однако, не состоялось: опытный режиссер вовремя распознал у соискателя хроническую болезнь горла, грозившую потерей голоса. В 1936 году Александр стал студентом физмата, однако мечту о большой литературе не оставил. Мальчику, рожденному под сенью гражданской войны, яснее виделось центральное событие эпохи, и он испытал настоящий ожог от революционной темы. Революция воспринималась как огромное событие, пережитое и семьей, и страной, — историческим свидетельством о крушении старого мира. Так он осознал, о чем нужно писать. Революция стала прологом к его рождению как человека, она должна была стать импульсом к его рождению как писателя. Судьба распорядилась, чтобы заблаговременно был получен и выдающийся художественный знак — как нужно писать.
К десяти годам мальчик был уже так искушен в чтении, что смог не только одолеть колоссальный для третьеклассника объем «Войны и мира», но и увидеть в эпопее Льва Толстого вдохновляющий образец грандиозного всеохватного исторического письма. Книга потрясла его — он смотрел на нее даже не как читатель, а как делатель литературы. «Первый толчок к тому, чтобы написать крупное произведение, я получил десяти лет от роду: я прочел “Войну и мир” Толстого и сразу почувствовал какое-то особенное тяготение к большому охвату». Роман Л. Толстого подсказал, каким может быть крупномасштабное сочинение о русской революции. 18 ноября 1936 года мечта обрела отчетливые очертания: надо начинать не с октябрьского переворота, а с событий Первой мировой войны, и показать через нее всю войну. Саня засел за книги, и вскоре открылась ему Самсоновская катастрофа — здесь был ключ, разгадка. Сюжет требовал детальных разработок, изучения военных карт и реляций с фронта, и он окунулся в это с головой. Александр стал одним из самых сильных студентов в своем потоке, и он всегда благословлял судьбу, что пошел на физмат. Математика сыграла решающую роль в жизни, а литература оставалась мечтой и призванием. Литературные опыты продолжались, сочинительский напор не ослабевал: множились стихи, рассказы, описания велосипедных и лодочных путешествий (спустя много лет Солженицын назовет ту свою литературу «обычным юным вздором»). Студент Солженицын дорожил каждой минутой свободного времени, занимался английским, обожал латынь («Я люблю мужскую собранность латыни, / Фраз чекан и грозный звон глаголов. / Я люблю, когда из-под забрала / Мне латынью посвященный просверкнет»), посещал местные литературные студии, выпускал факультетскую стенгазету, заботился о культурном образовании, столь необходимом начинающему литератору.
Юность писателя — десятилетие перед войной — совпала со временем, когда общий поток нового учения несся по стране, как ветер и ураган, захватывая в плен умы и сердца, сметая прочь сомнения и колебания. Молодежь Страны Советов искренне уверовала в новых богов — в Маркса и Ленина, в мировую революцию, в коммунизм, и была захвачена, оморена тотальной пропагандой передовых идей. И если до семнадцати лет Солженицын считал себя «совершенно противоположным этому строю, этому государству», не принимал советского воспитания и, как мог, сопротивлялся ему, скрывая свои убеждения и свою веру, — позже многое изменилось. «Я действительно повернулся, внутренне, и стал, только с этого времени, марксистом, ленинистом, во все это поверил. И с этим я прожил до тюрьмы: университет и войну». Марксизм был необходим студенту-математику Солженицыну для понимания общей идеи и мировой цели, для ориентации в потоке жизни. Но он был позарез необходим и Солженицыну, который твердо решил писать историю русской революции. Марксизм давал ему ощущение верного курса в том главном деле, которому он посвятит жизнь, — остальное его не трогало и не касалось. «Для понимания революции мне давно ничего не нужно, кроме марксизма; все прочее, что липло, я отрубал и отворачивался», — таким он был в студенческой юности и таким он честно себя запомнил.
Летом 1939 года вместе с другом Николаем Виткевичем Александр поступил в МИФЛИ, так что четвертый университетский курс был заполнен не только математикой и физикой, но также литературой и искусством. Однако ни двойная учебная нагрузка, ни семейная жизнь (в апреле 1940-го Саня женился на студентке химфака РГУ Н.А. Решетовской, с которой познакомился в 1936-м и начал встречаться в 1938-м) не мешали основной цели, и он продолжал идти навстречу своему главному труду. Будущее рисовалось великолепным — можно было окончить МИФЛИ заочно, иметь два диплома о высшем образовании и всецело отдаться литературе. Можно было, окончив университет, перевестись в МИФЛИ на очное отделение и стать столичным литератором. Да и в Ростове он был знаменит: сталинский стипендиат, лауреат конкурса чтецов, выпускник университета, получивший в июне 1941 года диплом с отличием и блестящую характеристику.
День начала войны — 22 июня 1941 года — застал его в Москве, в общежитии МИФЛИ, куда он приехал сдавать летнюю сессию за второй курс. Нужно было спешно возвращаться в Ростов, добиваться призыва (как ограниченно годного в первые месяцы его не взяли на фронт: «Ждите; когда вы будете нужны — родина вас позовет»). Долгожданная повестка пришла только 16 октября, так что Александр успел поработать по распределению учителем в г. Морозовске.
В повести «Люби революцию» (1948) он подробно опишет первые свои военные месяцы: «Началась война, и Нержин сперва попал ездовым в обоз и, давясь от обиды, неуклюжий, гонялся за лошадьми по выгону, чтоб их обратать или вспрыгнуть им на спину. Он не умел ездить верхом, не умел ладить упряжи, не умел брать сена на вилы, и даже гвоздь под его молотком непременно изгибался, как бы от хохота над неумелым мастером». Солженицын-солдат мечтал об артиллерии, и за пять месяцев обозной службы ездовой 74-го гужтранспортного батальона добился своего, выдержав экзамен на тяжелый однообразный труд и верность мечте.
В апреле 1942-го он стал курсантом 3-го Ленинградского артиллерийского училища, которое с начала войны было эвакуировано в Кострому, и пробыл в училище полгода. 2 ноября 1942 года лейтенант Солженицын был направлен в Саранск, где начал формироваться 794-й Отдельный армейский разведывательный артиллерийский дивизион и готовилась инструментальная разведка Красной Армии, 5 декабря назначен заместителем командира звуковой батареи, 21 декабря стал командиром звукобатареи (БЗР-2). В Саранске завершилось становление Солженицына-офицера. Школьный учитель, по медицинским показаниям не взятый на фронт в первые месяцы войны, обозник инвалидной команды превратился в лихого комбата артразведки, который во всеоружии военной науки готов был встретить главные сражения своей эпохи.
В первые дни января 1943-го, узнав об отступлении немцев под Ростовом, он писал жене, эвакуированной в Казахстан: «О-го-го-го! Ты слышишь мой голос через пустыни Средней Азии?— Немцы бегут!.. и куда? На север! Это русской-то зимой на север! Но на севере морозы крепче — так мстит за себя география. Но на севере бои жарче — так мстит за себя история. Фигляр думал обскакать историю на арийском жеребце или объехать на “Мессершмидте-109”. Если бы в 33-м году он мог видеть “Известия” за 1 января 1943 года!» 13 февраль дивизион выдвинулся из резерва на Северо-Западный фронт и 4 марта прибыл к месту расположения, в район рек Редьи и Ловати, под Старой Руссой, в нескольких километрах от переднего края обороны противника. Здесь, в промежутках между огневыми налетами немецкой артиллерии и вылазками на передовую, был написан начатый в Саранске рассказ «Лейтенант», первый из цикла «Военных рассказов», которыми автор предполагал отметить войну. В болотистой местности Ильмень-озера дивизион пробыл до конца марта, а затем был переброшен на Центральный фронт. С конца апреля дивизион как резерв Брянского фронта развернулся под Новосилем. Это был тургеневский край, и Солженицын испытывал к здешним местам и названиям острое, признательное чувство, вчитывался в военную карту, запоминая каждую деревню и рощу, каждый овраг, перелесок, ручей. Земля срединной России была разорена и опустошена. «Из болот, от Ильменя, / Мы пришли к Орлу, на солнечную Неручь. / Ни зерна ржаного. Ни плода. Ни огородины. / Край тургеневский, заброшенный и дикий... / Вот когда я понял слово Родина — / Над крестьянским хлебцем, спеченным из вики, — / Горьким, серым, твердым, как булыга, / В мелких черных блестках, как угля кристаллах... / Сморщенная бабушка невсхожею ковригой / Нас, солдат голодных, угощала».
Здесь, среди полного запустения, началось долгое стояние в обороне. «У меня в батарее, — вспоминал Солженицын, — был сержант, который очень ловко делал блокноты из широкой звукометрической ленты. Он изготовил пять одинаковых блокнотов, в виде блока, и я их по очереди исписал. Я использовал бледный твердый карандаш, чтобы он не стирался, и писал мелко, почти процарапывая бумагу. Я записывал все, что слышал, и каких только историй я не наслышался... Первые записи появились в 1943-м, как только приехали на Центральный фронт». Под Новосилем, на Неручи был подготовлен большой прорыв, и комбат Солженицын радовался, что фронт, наконец, пришел в движение, что грядут события, когда история не пишется, а делается. 12 июля начался прорыв, четверо суток продвигалась пехота под прикрытием артиллерии, и в ночь на 16-е звукобатарея Солженицына вошла в поселок Желябугские Выселки. 24 июля весь день сплошной бомбежки комбат был на волосок от смерти: несколько бомбардировщиков пикировали на одну из машин его звукобатареи, бомба упала рядом, и осколок от нее влетел в ящик из-под гаубичных гильз, который служил чемоданом, пробил портфель с бумагами и тетрадями, с военными рассказами, и — вылетел, не оставив на владельце и царапины. В Орёл батарея вошла 5 августа, а 15-го комбат Солженицын получил свою первую боевую награду. За успешную и быструю подготовку личного состава, за умелое руководство по выявлению группировки артиллерии противника на участке Малиновец — Сетуха — Бол. Малиновец командира БЗР-2 представили к ордену Отечественной войны II степени. «Он прост и изумительно красив — один из самых красивых наших орденов… Эх, никогда не думал, что буду орденоносцем!..»
С августа 43-го артдивизион покатил на Запад. В конце августа шли в наступление через брянские леса, откуда, навстречу своим, выходили партизаны и немедленно приступали к разминированию лесной чащи. В сентябре враг отступал уже так быстро и так поспешно, что не успевал жечь все деревни, взрывать все мосты, минировать все дороги. 15 сентября приказом командующего армии комбату Солженицыну было присвоено звание старшего лейтенанта. Огромный по времени и расстоянию марш-бросок от центральной России до Белоруссии, от Орла до Гомеля, от Неручи до Сожа оставил незабываемые впечатления. Врезались в память места, где они продвигались, укреплялись, стояли, отбивались, потом снимались и двигались дальше. Турск, Чечерск, Мадоры, Святое, Жлобин, Рогачев, Ола, Вишеньки, Шипарня, Беседь, Свержень, Заболотье, Рудня-Шляги. Бедная, сиротская земля, обезглавленные церкви, унылые избы, сгнившие мосты, хлипкие насыпи. Здесь комбату довелось испытать то спасительное самозабвение военного человека, то неразличение страшного и смешного, без которых невозможно вынести тяжесть похода и напряжения боя. «Что-то я оставил там такое, / Что уж больше не вернется нипочем... / Вечно быть готовым в путь далекий, / Заставлять служить и самому служить, — / Снова мне таким бездумно легким / Никогда не быть».
Стояние на Соже длилось почти два месяца, и Солженицын снова стал писать. Он ощущал себя на фронте как на правильной дороге, где, впитав в себя войну, можно подготовиться к послевоенному неизвестному. На Центральном фронте, почти бок о бок с ним воевал Виткевич. Друзья время от времени встречались и активно переписывались, полагая, что военной цензуре нет дела до общетеоретических размышлений офицеров. В начале декабря артдивизион тронулся с места в сторону Рогачева, остановился в снежном лесу, и друзья вновь оказались всего в семи километрах друг от друга. Свою очередную встречу они назвали «Совещанием Двух о послевоенном сотрудничестве и о войне после войны». «Мы переписывались во время войны между двумя участками фронта и не могли, при военной цензуре, удержаться от почти открытого выражения в письмах своих политических негодований и ругательств, которыми поносили Мудрейшего из Мудрейших, прозрачно закодированного нами из Отца в Пахана». В ночь на 3 января 1944 года в ходе восьмой фронтовой встречи друзья составили документ под названием «Резолюция № 1»; каждый носил по экземпляру в полевой сумке, чтобы сохранить при всех обстоятельствах, если один выживет. «“Резолюция” эта была — энергичная сжатая критика всей системы обмана и угнетения в нашей стране… Даже безо всякой следовательской натяжки это был документ, зарождающий новую партию». И намерение (вредный умысел), и рецидивы (крамольная переписка длилась много месяцев), и содержание писем (антисоветчина) давали по тому времени полновесный материал для осуждения обоих; «от момента, как они стали ложиться на стол оперативников цензуры, наша с Виткевичем судьба была решена, и нам только давали довоевывать, допринести пользу». Довоевывание заняло тринадцать месяцев, вместивших множество событий и на фронте, и в личной судьбе комбата.
18 января 1944 года от туберкулеза умерла Т.З. Солженицына — сын узнал о смерти матери только три месяца спустя и был жестоко подавлен, виня себя, что не смог оградить мать от голода и холода войны.
7 мая приказом маршала Рокоссовского он был произведен в капитаны. 23 июня его дивизион в составе 48-й армии двинулся в наступление по шоссе Бобруйск—Минск. Комбат едва успевал фиксировать впечатления — и самого похода, и грандиозного сражения под Бобруйском, где попала в окружение огромная группировка противника. В середине июля комбата догнал орден Красной Звезды за взятие Рогачева, райцентра Гомельской области; за него было пролито столько пота и крови, что даже была у 794-го артдивизиона надежда получить имя «Рогачевский». 20 июля 48-я Армия перешла границу; война вышла за пределы Отечества и катилась на Запад с впечатляющим ускорением. В августе, пока шли по польской территории, у Солженицына появилось предчувствие, что наступление приведет его к местам самсоновской катастрофы. Предчувствие сменилось уверенностью, когда начались (и длились весь сентябрь) бои за реку Нарев. С начала ноября огневая лихорадка сменилась долгожданной тишиной, и Солженицын-фронтовик тут же уступил место Солженицыну-писателю. Чем ближе казалась победа, тем напряженнее размышлял он о послевоенном времени. Он чувствовал, что планы все больше устремляются к борьбе, что он все меньше живет лично для себя, что его цели не обещают никаких благ, никакого личного успеха. Уже совершенно угадав свою судьбу, он заблуждался только в одном пункте — бороться предстояло несомненно, но совсем не за то. В ночь на 14 января из штаба дивизиона пришел приказ о наступлении. «Германия — перед нами! Еще удар — и враг падет, бессмертная Победа увенчает наши дивизии!..» Дней пять шли с боями по территории Польши, а 20 января миновали прусскую границу. Как перст судьбы воспринял Солженицын тот факт, что наступление пошло точно по следам самсоновской армии. Сбывалось одно из необъяснимых предчувствий, и 21 января перед ним открылся Найденбург. «Я предчувствовал, Ostpreussen, / Что скрестятся наши судьбы!» Ему оставалось воевать совсем немного. Стремительный бросок по Восточной Пруссии едва не привел к окружению и разгрому звукобатареи. Из мешка, в котором оставался огневой дивизион комбрига Травкина с двенадцатью тяжелыми орудиями, капитан Солженицын вывел почти что целой свою батарею, и еще раз возвращался туда за покалеченным «газиком». За операцию у деревни Адлиг Швенкиттен командование бригады 1 февраля подало в штаб артиллерии армии наградной список — за спасение батареи и техники капитан Солженицын был представлен к ордену Красного Знамени. Однако к моменту, когда был подготовлен наградной лист, в недрах другой канцелярии лежал приказ об аресте капитана.
9 февраля 1945 года приказ достиг цели. Комбриг Захар Георгиевич Травкин вызвал капитана Солженицына. «Когда меня позвали к командиру бригады на его командный пункт, мне и в голову не приходило, что это арест». Дивизион двигался по Восточной Пруссии, и к моменту звонка часа два находился под городом Вормдитом, готовясь к окончательной ликвидации группировки немцев, попавших в котел. С первой минуты ареста он, благодаря спасительной подсказке комбрига («У вас есть друг на Первом Украинском фронте?») знал, что схвачен за переписку с другом, и понял, по каким линиям ждать опасности. «Среди многомиллионного потока тех лет я не считаю себя невинной жертвой, по тем меркам. Я действительно к моменту ареста пришел к весьма уничтожающему мнению о Сталине… В мое время, в 1945/46, нас, таких, кто сел за образ мыслей, было сравнительно мало».
19 февраля 1945 года, на одиннадцатый день после ареста, спецконвой доставил арестанта из Восточной Пруссии в Москву, в центральную тюрьму НКГБ на Лубянке. Бессонная ночь с 19 на 20 февраля тянулась бесконечно, во многих боксах и коридорах, на пустых лестницах и лестничных площадках, при мертвой тишине, приучавшей арестанта быть покорным исполнителем тюремного режима. Следователь, капитан Езепов, работал согласно инструкции, «шил дело» спокойно и использовал лишь подручный материал. Однако и его было предостаточно: фотокопии писем, «Резолюция № 1». Следователю не нужно было ничего изобретать; «только старался он накинуть удавку на всех, кому еще когда-нибудь писал я или кто когда-нибудь писал мне, и нет ли у нашей молодежной группы какого-нибудь, старшего направителя». Дополнительным материалом служили найденные в полевой сумке наброски рассказов. Постепенно, превозмогая растерянность и уныние, подследственный обретал точку опоры. Его поведение на следствии дало тот несомненный результат, с которым можно было жить, не терзаясь, так что десятилетия спустя он имел право заявить своим бывшим друзьям: «Никого из вас не только не арестовали, но даже ни разу не допросили. По нашему делу никто невинный арестован не был, чему не порадуешься в миллионах дел ГУЛАГа. А ведь годы были лютые. (Через три года Решетовская прошла через процедуру засекречивания.) И когда я потом об этом результате узнал, что была за радость: перехитрил я капитана Езепова!».
Солженицын запомнит мельчайшие подробности своего тюремного бытия, надежды и разочарования, удачи и просчеты, страхи и восторги. По крохам и мгновениям будет копить впечатления неволи — события, люди, встречи, разговоры, рассказы, слухи, ощущения, настроения и даже сны. Слушать и учиться, спорить и воспитываться — станет смыслом четырехмесячного заточения. Марксист-идеалист, которого на воле не пронимала никакая агитация, оказался в тюрьме замечательно беззащитен; под напором тюремного реализма молодой подвижный ум открывался иным точкам зрения, иным убеждениям. 28 мая следствие было закончено, и арестанта перевезли в Бутырки, ожидать приговор. В обвинительном заключении значилось, что командир батареи звукоразведки Второго Белорусского Фронта в своей переписке призывал знакомых к антисоветской работе, занимался антисоветской агитацией и предпринимал практические шаги к созданию антисоветской организации. Следственное дело было направлено на рассмотрение Особого Совещания при НКВД СССР, и за совершение преступлений, предусмотренных ст.ст. 58-10 и 58-11 УК РСФСР Солженицын заочно был осужден к 8 годам исправительно-трудовых лагерей. Пункт 58-11 добавит позже еще и «ссылку навечно».
Из Бутырок Солженицына перевели на Красную Пресню, в пересыльную тюрьму — столицу ГУЛАГа, центр общесоюзной зоны. Пересыльная тюрьма давала время арестанту постепенно войти в лагерный и барачный быт. «В один шаг такого перехода не могло бы выдержать сердце человека. В этом мороке не могло бы так сразу разобраться его сознание». 14 августа 1945 года Солженицын был этапирован в лагерь под Новым Иерусалимом и там, на глиняном карьере, работал сменным мастером, откатчиком вагонеток, глинокопом. Вскоре, однако, этот лагерь (гиблое место, где выполнить норму по добыче глиняной жижи было невозможно) расформировали, и Солженицын был направлен в Москву, в лагерь смешанного типа, где на ул. Большой Калужской зэки уголовные и политические работали на строительстве жилых зданий для начальства НКГБ (МГБ) и МВД. Рядом с вахтой лагеря, похожей на обыкновенную проходную, были остановки городских автобусов и троллейбусов, и прохожие даже не догадывались, что здесь, в конце решетки Нескучного сада, на стройке дома работают заключенные. Десятимесячное пребывание на Калужской заставе в качестве помощника нормировщика, а затем ученика паркетчика запомнилось ему яркими типами соседей по комнате, лагерной художественной самодеятельностью, зловещей историей о том, как его склонял к сотрудничеству лагерный опер (сцену вербовки и происхождение агентурной клички «Ветров» Солженицын сам опишет впоследствии в «Архипелаге ГУЛАГ»), а также тем, что, заполняя учетную карточку, запишет в графе «специальность» — ядерный физик. Расчет был простой: государству позарез нужна была атомная бомба.
18 июля 1946 года из лагеря его отправили в Бутырки (там, в 75-й камере, собралось соцветие талантливых ученых, назначенных к секретной научной деятельности), а через два месяца в г. Рыбинск. Рыбинская шарашка (Ярославская область, г. Щербаков, п/я 127) была авиазаводом № 36, при котором в сороковые годы основали спецтюрьму, вошедшую в систему научно-исследовательских институтов МВД–МГБ. Зэки — ученые, инженеры, крупные специалисты — занимались конструированием авиационных и ракетных двигателей. Солженицын как математик был определен в измерительно-вычислительный отдел. «Вероятно, я не пережил бы восьми лет лагерей, если бы как математика меня не взяли на четыре года на так называемую “шарашку”».
В марте 1947-го он был переведен в Загорск, на оптическую шарашку, где тоже требовались математики. Однако ему пришлось разбирать немецкие патенты и вчитываться в показания военнопленных, в расчете на научно-технические тайны. «Здесь есть возможность использовать меня только как переводчика с немецкого и с английского, а математическая работа, если и будет, то не ранее осени, — сообщал он жене. — Судьба самым неожиданным образом заставляет меня заняться то одной, то другой областью моих знаний — как раз теми, к которым, как я думал во время войны, мне уже никогда не придется вернуться. Но работа с иностранными языками очень полезная штука. Перевожу уверенно, хотя пока и медленно». В Загорске Солженицын впервые открыл для себя… настоящий русский язык. В читальне оказался словарь Даля в четырех томах, издания 1863 года. За Даля он взялся как за серьезную науку — выписывая и конспектируя; ему даже разрешили брать словарь из библиотеки в общежитие. Не прошло, однако, и четырех месяцев, как Солженицыну пришлось проститься с Загорском.
9 июля 1947 года его в числе других зэков перевезли в подмосковное Марфино: они и стали отцами-основателями спецобъекта № 8. Шарашка занималась распаковкой ящиков, доставленных из Германии; сортировала устаревшую и битую аппаратуру по телефонии, ультракоротким радиоволнам, акустике. Солженицын был назначен библиотекарем. К его величайшей радости среди книг оказался и том Даля, третий. «Как с неба свалилось такое золото!.. Вот уж поистине на ловца и зверь бежит». Чтение Даля производило потрясающее впечатление. «Как будто я был плоским двухмерным существом, а мне вдруг открылась стереометрия. Я теперь совсем иначе стал понимать прошлую и представлять будущую русскую литературу и русский язык. Рано или поздно, но мне весь этот словарь хочется проработать, законспектировать».
В октябре в Марфино прибыло пополнение — будущие герои «Круга первого» — Лев Копелев и Дмитрий Панин. Солженицын напишет в «Круге первом»: «На воле невозможно собрать в одной конструкторской группе двух больших инженеров или двух больших ученых: начинают бороться за имя, за славу, за сталинскую премию, обязательно один другого выживет. Поэтому все конструкторские бюро на воле — это бледный кружок вокруг одной яркой головы. А на шарашке? Ни слава, ни деньги никому не грозят… Дюжина медведей живет в одной берлоге, потому что деться некуда. Поиграют в шахматы, покурят — скучно. Может, изобретем что-нибудь? Давайте! Так создано многое в нашей науке! И в этом — основная идея шарашек».
С начала 1948 года режим и характер работ в Марфине резко изменились. Закрытым Постановлением Совмина СССР от 21. 01. 1948 спецобъект № 8 системы МВД становился «Лабораторией № 1» при отделе оперативной техники МГБ СССР. Началась эпоха «секретной телефонии»: из ведомства Берии объект передали во владения Абакумова. На шарашку стали прибывать связисты, радиоинженеры и радиотехники, физики, химики, математики. Зэкам было объявлено, что отныне они являются сотрудниками особо секретного НИИ и что им доверено изобретение и изготовление такого телефона, при котором на многие тысячи километров может поддерживаться связь абсолютно надежная и абсолютно недоступная для любых подслушиваний и перехватов. Тех, кто способен увлечься этой проблемой и отдать ей все свои творческие силы, ждут досрочное освобождение, высокие награды, почетное место в большой науке. Панин попал в конструкторское бюро по разработке шифраторов, Копелев и Солженицын (передавший заведование библиотекой сотруднику МГБ) — в группу, изучавшую звучание русской речи. Математическим обеспечением исследования занимался Солженицын, фонетическим — Копелев. Основываясь на теории вероятности, Солженицын определял наименьшее количество текстов, необходимое для исследования, изучал слоговое ядро русского языка методами математической статистики.
В Марфине Солженицын начал писать автобиографическую поэму «Дороженька» — она создавалась устно, записанные отрывки в 20–30 строк выучивались и затем сжигались. В 1948-м прозаическая повесть «Люби революцию» продолжила историю героя «Дороженьки» Глеба Нержина. К осени 1949-го шарашка исчерпала для Солженицына свой ресурс, и он перестал держаться за ее блага. «Тюрьма разрешила во мне способность писать, и этой страсти я отдавал теперь все время, а казенную работу нагло перестал тянуть». Когда зимой 1950-го Солженицына вознамерились перевести в криптографическую группу, то есть погрузить в невылазную работу и безраздельно завладеть его временем, он категорически отказался: спасительная математика в момент решающего выбора уступила место запретной истории и литературе; выбор Солженицына — не включаться в математическую каторгу ради укрепления режима — имел свою логику.
19 мая 1950 года начался трехмесячный этап в Экибастузский особый каторжный лагерь, созданный летом 1949 года ради добычи угля зэками, — пять недель в Бутырках, Куйбышевская пересылка, Омский острог, патриархальные застенки Павлодара. В лагере арестантам выдали по четыре белых лоскута 8х15, и лагерный «художник» написал каждому его номер. Свой Щ-232 («весь Экибастуз я проходил с номером Щ-232, в последние же месяцы приказали мне сменить на Щ-262. Эти номера я и вывез тайно из Экибастуза, храню и сейчас») Солженицын должен был прикрепить на спине, на груди, надо лбом на шапке и на штанине повыше колена. Решив получить рабочую специальность, он поступил в бригаду каменщиков. Здесь, на общих работах, окончательно высвободился дар сочинительства. Поэма, которая писалась с марфинских времен, щедро вознаграждала подпольного поэта. «Иногда в понуренной колонне, под крики автоматчиков, я испытывал такой напор строк и образов, будто несло меня над колонной по воздуху, — скорей туда, на объект, где-нибудь в уголке записать. В такие минуты я был и свободен и счастлив».
Потаенное творчество имело вид мелких бумажных комочков с двадцатью строками, которые автор выдавал, если находили при обыске, — за чужое фронтовое стихотворение, за пьесу для самодеятельности и даже за отрывок из поэмы «Василий Теркин». Так были спасены от расправы лагерные стихи, строки из «Пира Победителей» и сам сочинитель. Надо было запоминать километры строк, тренируя память с помощью спичек и четок. Всю осень и зиму Солженицын пробыл на стройке. Много лет спустя он поймет, чту дал ему как писателю опыт тачки с цементом. «Я в 50-м году, в какой-то долгий лагерный зимний день таскал носилки с напарником и подумал: как описать всю нашу лагерную жизнь? По сути, достаточно описать один всего день в подробностях, в мельчайших подробностях, притом день самого простого работяги, и тут отразится вся наша жизнь. И даже не надо нагнетать каких-то ужасов, не надо, чтоб это был какой-то особенный день, а — рядовой, вот тот самый день, из которого складываются годы. Задумал я так, и этот замысел остался у меня в уме, девять лет я к нему не прикасался». Из этого замысла и вырастет «Один день Ивана Денисовича». «Лагерное существование, оно как бы меня повернуло… Лагерь направил меня наилучшим образом к моей главной теме». В Экибастузе его связь с домом, с женой, которая ждала его всю войну, писала письма и присылала посылки в лагеря, приходила на свидания в Марфино, совсем ослабла. Каторжную участь мужа-зэка Н.А. Решетовская восприняла как нечто, имеющее к ее жизни косвенное отношение. В 1951-м письма от нее перестали приходить, хотя помощь не прекратилась. В Рязани, где она жила и работала после московской аспирантуры, у нее образовалась другая семья.
Меж тем в Экибастузе наступила эпоха расправ над лагерными стукачами. Рубиловка становилась почти публичной, могла произойти в любое время суток, даже среди бела дня, на глазах у всех. Началось движение за избрание бригадиров снизу: вновь избранный брался за дело по поручению и с согласия работяг, и не начальства. В начале лета 1951 года бригадиром стал и Солженицын. Лагерное начальство жаждало реванша, и в январе 1952 года бунт зэков был подавлен пулеметами, железными трубами и дубинками. Зэки ответили трехдневной (24–26 января) голодовкой и забастовкой. Трое суток заключенные были подчинены общему чувству солидарности, вопреки разуму и трезвому расчету. «Этот взлет я ясно ощущал на себе. Мне оставалось сроку всего один год. Казалось, я должен был бы тосковать, томиться, что вмазался в эту заваруху, из которой трудно будет выскочить без нового срока. А между тем я ни о чем не жалел». 29 января Солженицын обратился в санчасть — у него быстро росла запущенная опухоль, требовалась срочная операция. Он лежал в лагерной больнице среди раненых и избитых, рядом с ним люди умирали от потери крови и тяжелых ран. 12 февраля ему сделали операцию, а через две недели выписали из больницы. Опухоль, хоть и злокачественная, как будто была не опасна и не могла дать метастазов. Но работа подсобником в литейном производстве, в жарком цеху, где нужно было носить и разливать в формы тяжелое литье, не сулила выздоровления.
Солженицын вышел за ворота лагеря 13 февраля 1953 года и снова попал на этап: Павлодар, Омск, Новосибирск и еще полторы тысячи километров до Джамбула, областного центра на юге Казахстана. В комендатуре областного МВД его уведомили: административным распоряжением он ссылается навечно в Коктерекский район Джамбульской области под гласный надзор районного МГБ и в случае самовольного отъезда за пределы района будет осужден на 20 лет каторжных работ. В 60-ти километрах от Джамбула — аул Кок-Терек («зеленый тополь»): саманные мазанки, раймаг, чайная, амбулатория, почта, райисполком, райком, дом культуры и школа-десятилетка.
4 марта ссыльным разрешили уйти на частные квартиры, и Солженицын снял крошечный домик с земляным полом. 5 марта 1953 года — знаменательное начало ссылки: перед репродуктором на центральной площади он услышил сообщение о смерти вождя и вообразил, какое ликование царит в Особлагах всей страны. В этот день он написал стихотворение «Пятое марта». Поначалу его зачислили счетоводом в райпотребсоюз, а в конце апреля позвали преподавать. День, когда Солженицын, учитель математики и физики средней школы, вошел в класс и взял в руки мел, стал истинным днем освобождения, возвратом гражданства.
Дети из ссыльных семей, сознававшие свое угнетенное положение, жадно учились — это был их единственный шанс выйти в люди. «При таком ребячьем восприятии я в Кок-Тереке захлебнулся преподаванием, и три года (а может быть, много бы еще лет) был счастлив даже им одним. Мне не хватало часов расписания, чтоб исправить и восполнить недоданное им раньше…» Спрятанные в памяти двенадцать тысяч строк здесь, наконец, получили выход на бумагу; автор мог не только записывать сочинения, но и дорабатывать их. И это уже было несомненное счастье.
Не успев насладиться счастьем учительства и писательства, ссыльный учитель заболел. Мучили сильные боли, пропал аппетит, он едва мог вести уроки. В конце ноября удалось получить разрешение на поездку в Джамбул, в областную больницу; уезжая из Кок-Терека, он оставил новому другу, ссыльному доктору Зубову, необходимые распоряжения — на случай, если они более не увидятся. В Джамбуле подтвердились худшие подозрения: метастазы и скорый, отмеряемый неделями, конец. Он вернулся в Кок-Терек, пил настойку из иссык-кульского корня. Обещанные джамбульскими врачами недели Солженицын назовет самыми страшными в своей жизни: смерть на пороге освобождения, гибель лагерного заучивания и всего написанного: никого не кликнешь, никому не расскажешь, никто не приедет и не заберет тайные рукописи. Ночами, бессонными от боли, отравленный ядами опухоли, он записал все выученное, скрутил листы в трубки, набил ими бутылку из-под шампанского и закопал ее на своем участке. Под Новый 1954 год, получив разрешение, уехал в Ташкент, в онкологическую клинику. Лечение, при большой запущенности процесса, было крайне трудным. История болезни, тяготы лечения и чудо исцеления отразятся позднее в рассказе «Правая кисть» и повести «Раковый корпус». 18 февраля 1954 года Солженицын выписался из онкодиспансера и вернулся в Кок-Терек. Летом лечение пришлось повторить снова, уже с твердой надеждой на выздоровление.
Весной 1954-го, в перерыве лечения, писал пьесу «Республику труда». «Эту я уже не пробовал и заучивать, это первая была вещь, над которой я узнал счастье: не сжигать отрывок за отрывком, едва знаешь наизусть; иметь неуничтоженным начало, пока не напишешь конец, и обозреть всю пьесу сразу; и переписать из редакции в редакцию; и править; и еще переписать». Эпоха Прекрасной Ссылки — это два года после выздоровления, когда ссыльный пребывал в блаженном, приподнятом настроении. Он испытывал постоянное счастье от уроков и учеников, от того что весь 1955 год писал «Круг первый», роман о шарашке; от домика, арыка за калиткой, свежего степного ветра, от приемника с короткими волнами, купленного ради музыки и вольного слова.
В феврале 1956 года состоялся ХХ съезд КПСС. Через два месяца ссылка для осужденных по 58-й статье была упразднена. 16 апреля Солженицын получил справку о том, что освобождается от дальнейшего отбытия ссылки со снятием судимости и имеет право получить паспорт. Дар свободы увлекал Солженицына в Россию — хотелось устроиться в глуши, учительствовать, писать. 20 июня 1956 года он покинул Кок-Терек.
Спустя полвека писатель назовет свою ссылку величайшим испытанием, сочетанием боли, мучения и счастья, второй юностью. «Я рисую ее для себя необычайно возвышенно, горжусь ею, я там оставил сердце, хотя не сошелся ни с кем, а только писал. Впервые после лагеря я там писал, и много написал, и это составило мое — в Москве его тепло встретили друзья по шарашке, проявила интерес к лагерным стихам бывшего мужа Н. Решетовская; нужно было искать работу, хлопотать о реабилитации, навестить родных в Ростове, поклониться могиле матери в Георгиевске.
В августе 1956-го, получив место учителя физики и математики, Солженицын переехал в Торфопродукт Владимирской области. Школа находилась в поселке Мезиновском, а жить писателю пришлось в двух километрах от школы — в мещерской деревне Мильцево, у Матрёны Васильевны Захаровой. Пройдет три года, и он напишет рассказ, который обессмертит эти места: и станцию, и поселок, и дом квартирной хозяйки, и саму Матрёну, праведницу и страдалицу. Фотография уголка избы, где поставит постоялец раскладушку и стол с лампой, обойдет весь мир.
В конце октября в Мильцево приехала Решетовская, и бывшие супруги воссоединились. «Я изгубил одиночеством свои ссыльные годы — годы ярости по женщине, из страха за книги свои, из боязни, что комсомолка меня предаст. После 4 лет войны и 8 лет тюрьмы, оставленный женой, я изгубил, растоптал, задушил три первые года своей свободы, томясь найти такую женщину, кому можно доверить все рукописи, все имена и собственную голову. И воротясь из ссылки, сдался, вернулся к бывшей жене», — напишет позднее Солженицын.
6 февраля 1957 года Военная коллегия Верховного Суда СССР вынесла решение о реабилитации Солженицына за отсутствием состава преступления. В конце учебного года он навсегда простился с Мезиновской школой; после трагической гибели Матрёны Захаровой под колесами поезда его здесь ничего не удерживало. Начинался период «тихого житья» в Рязани с женой и тещей, время скромного учительства, тайного писательства.
Коллектив преподавателей и учащихся рязанской средней школы № 2, куда в сентябре 1957-го Солженицын устроился учителем физики и астрономии и где проработал пять лет, и представить себе не мог, что в свободное от уроков время неразговорчивый, замкнутый учитель с тяжелым прошлым занят литературным творчеством. Согласно кодексу подпольщика, никто, кроме самых близких, не должен был знать, чем он занят, видеть его пишущим или печатающим на машинке. А он весной 1958-го уже давал друзьям читать роман о шарашке — с восторгом его прочел Панин, сдержанно — Копелев. Той же весной Солженицын задумал написать обобщающую работу о тюрьмах и лагерях. Тогда же родилось и название – «Архипелаг ГУЛАГ». Был разработан принцип последовательных глав о тюремной системе, следствии, судах, этапах, «исправительно-трудовых» и каторжных лагерях. Книга должна была вобрать опыт автора и его друзей, рассказать о судьбах всех, с кем его свела судьба. Никто не знал о крамольном замысле, но когда было уже написано несколько глав, стало понятно, что материала — лиц, историй — не хватает. Работа прервалась.
Поздней весной 1959 года Солженицын, вспомнив свой старый замысел об одном дне зэка, за полтора месяца написал рассказ. «Сел — и как полилось! со страшным напряжением! Потому что в тебе концентрируется сразу много этих дней. И только чтоб чего-нибудь не пропустить». В лагерную летопись Солженицына, которую он вел с 1947 года, пришел новый герой: политический заключенный из самых низов. На долю такого з/к выпадает только черный труд — общие работы, от которых бегут все, кто может зацепиться за профессию и образование, хитрость или удачу. Рассказ носил название «Щ-854» — этот номер был выведен черной краской на лоскутах, нашитых на казенное обмундирование Ивана Денисовича Шухова. Фамилия Шухов вошла в рассказ естественно. Так звали пожилого солдата из батареи Солженицына: солдат не был в плену, никогда не сидел, и комбат даже не предполагал, что когда-нибудь станет о нем писать. Вместе с фамилией в рассказ вошло лицо солдата, его речь, характер, повадки. Лишь лагерная профессия каменщика досталась ему от автора. Поворот Солженицына от образованных героев-зэков, от их споров и дискуссий имел переломный характер. Это был прорыв к главной и полной правде о человеке, брошенном в бездну зла и на линию огня, поворот к личности, которая в советской иерархии унижена и подавлена в самой большей степени, но которая в самой меньшей степени живет по лжи. Этот рассказ станет поворотным и в судьбе автора.
Постепенно образовался кружок знакомых, где прочитывались и обсуждались все сочинения Солженицына, и писатель понемногу привыкал к читателям их вольных — его подполье наполнялось воздухом. В мае 1961 года писатель привез Копелевым «Щ-854», перепечатанный облегченно, то есть без самых резких мест и суждений, для чтения по списку. Вскоре малый культурный круг был потрясен и покорен, и «Щ» стал достоянием самиздата.
Но уже в октябре, под воздействием выступления на XXII съезде КПСС главного редактора «Нового мира» А.Т. Твардовского (литература не всегда и не во всем следует примеру той смелости, прямоты и правдивости, который показывает ей партия») Солженицын рискнул отдать свой рассказ в самый либеральный советский журнал. Получив и прочитав «Щ», Твардовский испытал счастливое потрясение. «Печатать! Печатать! Никакой цели другой нет. Все преодолеть, до самых верхов добраться, до Никиты… Доказать, убедить, к стенке припереть. Говорят, убили русскую литературу. Черта с два! Вот она, в этой папке с завязочками», — ликовал он. 12 декабря журнал заключил с автором договор, но борьба за публикацию длилась почти год, и решалась, беспримерными усилиями Твардовского, на уровне первого лица государства, Н.С. Хрущёва.
18 ноября 1962 года одиннадцатый номер «Нового мира» появился в продаже. Одна из самых феерических историй литературно-художественной и общественно-политической жизни страны, этой высшей точки хрущевской оттепели, свершилась. Громкая слава, обрушившаяся на Солженицына, его молниеносный взлет имели для него самые серьезные последствия. Рассекретилось писательское подполье. Маска педагога из провинции, плотно приставшая к Солженицыну, была сорвана, и рязанская школа № 2 вдруг узнала, кто же на самом деле работал в ее стенах (29 декабря он проведет здесь свой последний урок).
Его поспешно приняли в Союз писателей РСФСР. В Рязань потянулись журналисты, фотографы, поклонники творчества, а ему самому все чаще нужно было выезжать в Москву — к издателям, переводчикам, интервьюерам. Театр «Современник» мечтал поставить пьесу «Республика труда» (в сценическом варианте «Олень и Шалашовка»), артисты готовы были за месяц выпустить спектакль. Твардовский противился, считая пьесу ниже рассказа: «искусства не получилось». У знаменитого автора появились новые знакомства: К.И. Чуковский, В.Т. Шаламов, Е.С. Булгакова, А.А. Ахматова. «Иван Денисович» еще до выхода в свет сумел покорить ее, и она утверждала непререкаемо: «Эту повесть о-бя-зан прочитать и выучить наизусть — каждый гражданин изо всех двухсот миллионов граждан Советского Союза».
1 декабря 1962 года в Манеже открылась выставка, посвященная 30-летию Московского союза художников, которую посетил Хрущёв. Увидев работы, далекие от реализма, он был разгневан. Следующий «диалог с творческой интеллигенцией» состоялся 17 декабря, и Солженицын как фаворит был представлен Хрущёву. «Я испытал к нему толчок благодарного чувства, так и сказал, как чувствовал, руку пожимая: “Спасибо вам, Никита Сергеевич, не за меня, а от миллионов пострадавших”».
Общество, сошедшееся вместе на Ленгорах, не вызвало у писателя энтузиазма. «Это — все грозные были имена, звучные в советской литературе, и я совсем незаконно себя чувствовал среди них. В их литературу я никогда не стремился, всему этому миру официального советского искусства я давно и коренно был враждебен, отвергал их всех вместе нацело. Но вот втягивало меня — и как же мне теперь среди них жить и дышать?» Встреча с руководством страны дала внятный сигнал, что повестью, одобренной сверху, лагерная тема в литературе исчерпана.
В январе 1963-го в «Новом мире» вышли еще два рассказа Солженицына: «Матрёнин двор» и «Случай на станции Кочетовка». Им писатель радовался даже больше, чем выходу «Ивана Денисовича». «Там — тема, а здесь — чистая литература. Теперь пусть судят!» К.И. Чуковский писал: «“Иван Денисович” поразил меня раньше всего своей могучей поэтической (а не публицистической) силой. Силой, уверенной в себе: ни одной крикливой, лживой краски, и такая власть над материалом; и такой абсолютный вкус! А когда я прочитал “Два рассказа”, я понял, что у Льва Толстого и Чехова есть достойный продолжатель».
7–8 марта 1963 года в Екатерининском зале Кремля Хрущёв снова собрал творческую интеллигенцию. Новая встреча отменяла понятие «оттепель» («неустойчивая непостоянная погода») и обещала «морозы» для врагов партии. Железная когорта партийных поэтов нагнетала ужас. Интеллигенции вменялось в обязанность самой бороться за чистоту рядов. Уже никто не искал знакомства с недавним фаворитом. Публикации «Нового мира» отныне именовались злостным очернительством; журнал называли «сточной канавой, собирающей всю гниль в литературе». Наступило время травли Солженицына в советской печати. В таких обстоятельствах Твардовский поставил перед собой задачу — добиться присуждения Ленинской премии «Ивану Денисовичу». Солженицын трезво оценивал шансы — победа укрепит и даст выигрыш во времени, поражение обнажит истинную расстановку сил в литературном сообществе.
В ходе баталий противники пустили в ход клевету, давили на прессу, запугивали членов жюри. В день финального голосования «Правда» дала указание забаллотировать автора «Одного дня Ивана Денисовича» с его «уравнительным гуманизмом», «ненужной жалостливостью», непонятным «праведничеством» — всем, что мешает «борьбе за социалистическую нравственность». Охранители соцреализма безошибочно чуяли чужака, которого нельзя пускать в круг избранных; нельзя сохранить систему и свое в ней положение вместе с Солженицыным. Нельзя встроить его в систему, оставив ее нетронутой. Узаконить его центровой статус, ведущее положение в литературе значило поставить под сомнение самих себя. В начале мая 1964 года в Рязань приехал Твардовский — читать роман «В круге первом». Роман властно захватил редактора, и он решился печатать «Круг». Предстояла мучительная борьба за роман, но в работе у Солженицына были уже и новые вещи: «Раковый корпус» (весной 1964-го он ездил в Ташкент для встречи с врачами, теперь уже не лечиться, а собирать материал), рассказы-крохотки (они мгновенно уходили в самиздат), копились новые лагерные материалы, показания свидетелей, шла подготовка к большому «Архипелагу». «Малой октябрьской революцией» назвал Солженицын сокрушительные события 14 октября 1964 года — заговор партийной верхушки против Хрущёва и снятие его с поста руководителя партии и страны.. «С его падением не должен ли бы загреметь и я?» Всем казалось, что немедленно начнется всеобщий разгром. Но в то самое время, когда интеллигенция опасалась реабилитации Сталина, когда люди, ожидая обысков, сжигали самиздат, когда «Один день Ивана Денисовича» и «Тёркин на том свете» объявлялись позорными страницами «нашей литературы», а цензура запретила лагерную тему, — Солженицын вплотную взялся за «Архипелаг ГУЛАГ» (он напишет его за две зимы в эстонских «укрывищах»). После «Ивана Денисовича» накопилось огромное количество материала. Автора называли другом и братом, его труд считали подвигом, благодарили за мужество и могучий талант. «Один день» сравнивали с Библией, и для тысяч читателей повесть стала ударом в сердце, зовом истины, а также духом времени, который заговорил языком человеческой правды, раздвинул силы мрака. Поток писем превосходил все ожидания. Люди свидетельствовали, становились тайными помощниками, сообща строившими «Архипелаг». «Кроме всего, что я вынес с Архипелага, — шкурой своей, памятью, ухом и глазом, материал для этой книги дали мне в рассказах, воспоминаниях и письмах — 227 свидетелей. Я не выражаю им здесь личной признательности: это наш общий памятник всем замученным и убитым».
А в стране готовился крутой поворот к сталинизму, с зажимом идеологии, возвратом к практике «врагов народа», походом на литературу. Первым шагом стал арест Синявского и Даниэля; в плане была ее «тысяча интеллигентов». 11 сентября госбезопасность пришла к московским знакомым Солженицына, в квартире которых хранился его архив. «В мой последний миг, перед тем как начать набирать глубину, в мой последний миг на поверхности — я был подстрелен!» В те дни К.И. Чуковский записывал в дневнике: «Враги клевещут на него, распространяют о нем слухи, будто он власовец, изменил родине, не был в боях, был в плену… Он бесприютен, растерян, ждет каких-то грозных событий — ждет, что его куда-то вызовут, готов даже к тюрьме». Чуковский предложил Солженицыну свой кров — оставаться в Рязани было опасно. Его методично выдавливали из литературы. Борьба за печатание «Круга первого», как и попытки опубликовать в «Новом мире» новые рассказы, «Раковый корпус» (несмотря на благожелательное обсуждение повести в Центральном Доме литераторов) ни к чему не привели. Публичные выступления срывались, запрещались, отменялись. В издательствах, газетах и журналах срабатывал «санитарный кордон» против его имени и каждой его новой строки. С закрытых трибун, по всей сети партпросвещения, по стране расползалась клевета: тысячи лекторов работали по единой установке. Он стал отдавать свои новые вещи в самиздат, и самиздат отвечал ему благодарностью. «Провалитесь все ваши издательства! — мою книгу хватают из рук, читают и печатают ночами, она станет литературным фактом прежде, чем вы рот свой раззявите! Пусть ваши ленинские лауреаты попробуют распространить так свои рукописи!» Власть сама указала ему на его силу и мощь.
Весной 1967 года он написал и отправил открытое письмо к IV съезду писателей СССР. Солженицын требовал осудить произвол чиновников над писателями, упразднить цензуру над литературой, обвинял Союз писателей, что тот бросает своих членов в минуты бедствий и часто выступает первым среди гонителей. «Свою писательскую задачу я выполню при всех обстоятельствах, а из могилы — еще успешнее и неоспоримее, чем живой. Никому не перегородить путей правды, и за движение ее я готов принять и смерть. Но, может быть, многие уроки научат нас, наконец, не останавливать пера писателя при жизни?» То, что испытывал Солженицын в первые дни после съезда, было «чистым светом радости». Он высказался, получил немалую поддержку от писателей и занял свою естественную позицию — пребывать независимо. Но такая позиция была непереносима для властей и писательской верхушки: на Солженицыне сосредоточилась ненависть партийного начальства и его открытых противников в литературном мире. На заседаниях Политбюро ЦК КПСС и на секретариатах Союза писателей регулярно обсуждался вопрос «О поведении и взглядах А. Солженицына» и готовились санкции против мятежного писателя. А он, закончив «Архипелаг», устроил в своем летнем домике на Истье чистовую перепечатку текста (помогали Е.Ц. Чуковская и Е.Д. Воронянская), переснял машинопись на пленку и при содействии друзей переправил ее на Запад; работал над новой редакцией «Круга первого» с «атомным» сюжетом, принимал поздравления от сотен читателей в день своего пятидесятилетнего юбилея, удостаивался зарубежных наград за свои произведения, которые уже переводили на главные языки мира.
Ранней весной 1969-го он приступил к непрерывной, а потом и скоростной работе над «Красным Колесом», тридцать три года спустя от момента замысла.
Дело Солженицына», инициированное писательской верхушкой в союзе с Политбюро ЦК КПСС, было, однако, запущено и обратного хода не имело. 4 ноября 1969 года на заседании Рязанской писательской организации Солженицына исключиди из СП РСФСР. В ответ он разослал новое «Открытое письмо». «Бесстыдно попирая свой собственный устав, вы исключили меня заочно, пожарным порядком… Протрите циферблаты! — ваши часы отстали от века. Откиньте дорогие тяжелые занавеси! Вы даже не подозреваете, что на дворе уже светает…» «Открытое письмо» было воспринято в СП с ужасом и негодованием. Многие, включая Твардовского, были потрясены: «измена, нож в спину». Здесь и была роковая линия, по которой проходил и дошел до конца главный культурный раскол конца 60-х: Солженицын — «Новый мир». Писатель, освобождаясь от оков системы, каждый свой поступок сверял с историей: не стыдно ли будет через двадцать лет? Журнал, задыхаясь от несвободы, терпел унижения и невольно продлевал агонию.
В феврале 1970-го Твардовский вынужден был покинуть пост главного редактора. В конце 1960-х брак Александра Исаевича, уже давно расстроенный, распался. Он сблизился со своей новой помощницей, аспиранткой мехмата МГУ Н.Д. Светловой, и в конце 1970 года у них родился сын, первенец. А накануне, в октябре 1970-го, А.И. Солженицын стал лауреатом Нобелевской премии по литературе — еще летом группа французских деятелей искусства во главе с Франсуа Мориаком, считая Солженицына величайшим писателем современности, выдвинула на премию повесть «Один день Ивана Денисовича». Власти восприняли новость как акт холодной войны и политическую провокацию. Больше всего начальство раздражала премиальная формула: «За нравственную силу, с которой он продолжил извечную традицию русской литературы». Пресса получила указание усилить дискредитацию писателя, осудить решение Нобелевского комитета. Одновременно поступили сигналы, что в Швеции тоже боятся шумихи и видят его стокгольмский визит максимально тихим. Солженицын сознавал, что премия, если он за ней поедет, лишит его родины (власти готовились аннулировать его въездную визу, едва он пересечет границу), обречет на разлуку с семьей и все равно не дает высказаться в полный голос. Лауреат остался в Москве, его приветственное слово звучало в Стокгольме, а сам он слушал церемонию по радио на даче М.В. Ростроповича — музыкант дал опальному писателю надежный приют. Все попытки лауреата получить нобелевские почетные знаки на родине властями были пресечены. Положение Солженицына становилось все более сложным.
Летом 1971 года в Париже вышло русское издание романа «Август Четырнадцатого», вслед за ним он появился во многих странах Европы и в США. Для властей это стало, по словам А.И. Солженицына, «опрокидывающей неожиданностью». Роман, недоступный русскому читателю, бешено ругала советская печать, писательская братия возмущенно доносила в ЦК: «Солженицын спокойно разгуливает по Москве, снабжает наших врагов идеологическим антисоветским оружием, а мы ему все прощаем. Доколе?» В августе 1971 года спецслужбы предприняли попытку физического устранения писателя: отравленный ядом рицинина, А.И. Солженицын долго болел, врачи не могли установить причину «аллергии», и только двадцать лет спустя стала ясна истинная картина покушения. Но тогда, в 1971–1973-х, выходили в самиздате и немедленно оглашались западным радио его речи, интервью, открытые письма, вызывавшие ярость властей. Каждое упоминание о Солженицыне в западной печати регистрировалось как «новая волна антисоветской кампании». За ним усиленно следили, квартира его семьи круглосуточно прослушивалась. Солженицын виделся законченным врагом советского строя. «Один день Ивана Денисовича» трактовался как ловкая маскировка — автор, дескать, притворился борцом с последствиями культа личности, а на самом деле отрицает революцию, коммунистическую идеологию и практику социалистического строительства. Проект Указа о лишении его гражданства ждал своего часа.
Летом 1973 года в Ленинграде была арестована Е.Д. Воронянская, в ходе обысков и допросов госбезопасность получила рукопись «Архипелага ГУЛАГ». Виня себя в предательстве, Воронянская покончила с собой. А.И. Солженицын понял, что сама судьба посылает ему знак: следует спешно печатать «Архипелаг». 28 декабря первый том «Архипелага» на русском языке появился в парижском издательстве «ИМКА-пресс». Центральные европейские газеты извещали о выходе «Архипелага» как о крупнейшей, мировой сенсации. 7 января Политбюро ЦК КПСС во главе с Л.И. Брежневым инициировала операцию экстрадиции. Председатель КГБ Ю.В. Андропов настаивал на принудительной административной высылке и указывал на прецедент с Троцким в 1929 году. Члены Политбюро Подгорный, Громыко, Шелепин и Косыгин во что бы то ни стало хотели добиться ареста, суда и максимального срока с отбыванием наказания в лагерях строгого режима в зоне большого холода, откуда не возвращаются, например, в Верхоянске. «Литературная газета», по прямому указанию Суслова, пустила в оборот термин для автора «Архипелага»: литературный власовец. К газетной кампании подключились телефонная и почтовая: анонимные звонки и письма, злобная ругань, яростные угрозы. Ключ к развязке дало заявление западногерманского канцлера Вилли Брандта: Солженицын может беспрепятственно жить и работать в ФРГ.
12 февраля 1974 года писатель был арестован и препровожден в следственный изолятор Лефортово, 13-го ему предъявили обвинение по 64-й статье УК (измена родине), прочитали Указ о лишении гражданства, отвезли в аэропорт Шереметьево и рейсовым самолетом, в сопровождении оперативников, отправили в Германию. Рассказ об этом составит самые волнующие страницы очерков «Бодался теленок с дубом» (А.И. Солженицын начал писать их весной 1967-го, дополняя по мере развития событий). Свое появление в центре Европы Солженицын понял как шанс писать и печатать книги. «Только б не дать себя закружить, а продолжать бы в тишине работать, не дать загаснуть огню писания. Не дать себя раздергать, но остаться собой». Сутки пробыл в доме приютившего его Генриха Белля (знакомство с немецким писателем состоялось в Москве, в феврале 1972 года; через Белля было переправлено на Запад завещание Солженицына на случай смерти или ареста). 15 февраля А.И. Солженицын переехал в Цюрих, в дом адвоката Ф. Хееба, где произошла встреча с Н.А. Струве, парижским издателем, перешедшая в многолетнюю дружбу и мощное сотрудничество.
Спустя полтора месяца самолетом из Москвы прилетела семья А.И. Солженицын — жена, теща Е.Ф. Светлова, четверо сыновей. Многолетние заготовки к «Красному Колесу», без которых автор был бы в изгнании «инвалидом с вырванным боком и стонущей душой», Н.Д. Солженицыной удалось, не утратив ни странички, переправить в Швейцарию, минуя таможню и копировальные аппараты. Поселившись Цюрихе, в арендованном доме, А.И. Солженицын и его жена вскоре почувствовали, что открыты «всем ветрам»: здесь — скрещенье европейских дорог, волны эмигрантов, потоки посетителей. Александр Исаевич уезжал работать в альпийский Штерненберг, первой же весной его навестил здесь о. Александр Шмеман.
Весной же было решено создать Русский Общественный Фонд, на средства мировых гонораров от «Архипелага». «Сперва помощь — зэкам, преследуемым, но не упускать и русскую культуру, и русское издательское дело…» Все же за два цюрихских года А.И. Солженицын многое успел. Провел пресс-конференцию в связи с выходом сборника «Из-под глыб»; принял участие в Нобелевской церемонии и выступил с ответным словом, навел порядок в многолетне запутанных издательских делах, закончил ленинские главы «Красного Колеса» («Ленин в Цюрихе»). Задумав искать пристанище за океаном, весной 1975 года Солженицын улетел Канаду, однако, несмотря на многодневные поиски, найти подходящее жилье не удалось. Пути изгнания неизбежно вели в Америку, куда его настойчиво звали с первых дней высылки. И пока он выступал в Нью-Йорке и Вашингтоне, путешествовал по стране (а в Париже в это время вышел по-русски «Теленок»), а потом снова уединялся для работы в горах Швейцарии, участок и дом (в штате Вермонт, близ городка Кавендиш) были найдены друзьями и куплены заочно.
Перед отъездом в США удалось побывать в Англии, Италии, Испании — к его выступлениям было приковано внимание и Европы, и Америки. Официальная Москва, пристально следя за изгнанником, не ослабляла усилий по его дискредитации, утверждая, что он собственными усилиями разрушает миф о себе как «поборнике демократии». Мемуарные очерки «Бодался теленок с дубом» в советской прессе были названы злобным пасквилем, оскорбляющем творческую интеллигенцию.
3 июля 1976 года Солженицын въехал в свой вермонтский дом, а вслед за ним и все семейство. Восемнадцать лет, проведенных в Америке, оказались для А.И. Солженицын чрезвычайно плодотворными. Здесь, в обстановке русского культурного оазиса выросли сыновья, а сам писатель («отшельник» и «затворник»), закончил «Октябрь Шестнадцатого» (начатый на родине), написал «Март Семнадцатого» и «Апрель Семнадцатого». Только к концу 1980-х Александр Исаевич завершил труд, задуманный в юности: на «Красное Колесо» ушло более полувека самоотверженного труда — кропотливых архивных и библиотечных разысканий, погружений в исторические документы и печать революционного времени. В конце 1989 года был закончен и «Дневник “Красного Колеса”», верный спутник романа-эпопеи, который А.И. Солженицын вел почти сорок лет. В Вермонте, усилиями Н.Д. Солженицыной, бессменного редактора и советчика, осуществились подготовка к печати и набор Собрания сочинений в двадцати томах — все Собрание удалось напечатать Париже, в издательстве «ИМКА-пресс». Еще в 1977-м А.И. Солженицын обратился к старой русской эмиграции: «Я призываю моих соотечественников теперь же сесть писать такие воспоминания и присылать их — чтобы горе наше не ушло вместе с ними бесследно, но сохранилось бы для русской памяти, остерегая на будущее». К концу изгнания в доме писателя сосредоточится гигантский архив — тысячи рукописей для будущей Всероссийской Мемуарной Библиотеки. В изгнании началась (а дома продолжилась) работа над «Литературной коллекцией» (всего будет написано более сорока очерков) и над мемуарами «Угодило зернышко промеж двух жерновов»; был переработан «Теленок», добавлен раздел «Невидимки». Продолжились и публицистические выступления писателя: «Гарвардская речь» (1878), речи, произнесенные в Японии и на Тайване во время Азиатского путешествия (1982), полемическая статья «Наши плюралисты» (1982), лекция, прочитанная в Лондоне при вручении Темплтоновской премии (1983) имели огромный резонанс и вместе с тем подвергались жесткой критике, а сам писатель — травле. «До гарвардской речи я наивно полагал, что попал в общество, где можно говорить, что думаешь, а не льстить этому обществу. Оказывается, и демократия ждет себе лести!» Переброшенный в свободную Америку, А.И. Солженицын никак не мог ожидать, что именно здесь будет обложен дремучей клеветой, не слабее советской. Солженицын — стараниями либеральной американской и частью третьеэмигрантской прессы — воспринимался как символ исторической России, растоптанной в 1917 году и не имеющей права на возрождение. «Сумасшедшая трудность позиции: нельзя стать союзником коммунистов, палачей нашей страны, но и нельзя стать союзником врагов нашей страны. И все время — без опоры на свою территорию. Свет велик, а деться некуда. Два жорнова». Солженицын ясно видел, что жернова эти заведены надолго.
Америка оставалась чужбиной, а в СССР, казалось, не только ничего не меняется к лучшему, но все безнадежно отягчается. «Без твердой земли под ногами, без зримых союзников. Между двумя Мировыми Силами, в перемолот. Тоскливо». Когда в 1986-м грянул Чернобыль, и Солженицын увидел по телевидению кадры народного гуляния на зараженном радиацией Крещатике, он чувствовал, что все «как всегда, от ленинских времен». Однако и до Вермонта стали доходить необычайные новости — из горьковской ссылки возвращен А.Д. Сахаров, в советских газетах печатаются «вольные» статьи об экономике, наблюдаются послабления в культуре, отменен проект поворота северных рек. Вместе с тем А.И. Солженицын ясно видел, что процесс перестройки будет долгим и трудным и пойдет «по самой дальней дуге». А на родине были убеждены: перестройка станет необратимой, если опубликуют «Архипелаг»; это и будет доказательством не показной, а подлинной гласности. Но еще и в 1987-м это казалось фантастической мечтой: власти называли срок в двести (!) лет. «Что я могу по совести сказать о горбачевской перестройке? Что что-то новое началось — слава, слава Богу. Так можно — хвалить? Но все новизны пошли отначала нараскоряку и не так. Так надо — бранить? И получается: ни хвалить, ни бранить. И тогда остается — молчать». Летом 1988 года Солженицыну стало известно, что «Новый мир» хочет печатать «Раковый корпус». Но Александр Исаевич принял решение: именно «Архипелаг» должен стать условием и началом возвращения в Россию. Он — причина высылки, за тайное его чтение людей сажали в тюрьмы; он — пробный камень горбачевской гласности: действительно ли система, которая не принимала Солженицына и пыталась оградить от него население, хочет перемен или намерена лишь что-то подмалевать для видимости? В таком случае «Раковый корпус» только затуманит картину, а «Архипелаг» «пронижет перестройку разящим светом». «Если возвращаться в советское печатание — то полосой каленого железа, “Архипелагом”». «Новый мир» рискнул «пробовать». Изнурительная борьба шла почти год, но теперь она опиралась на мощную общественную поддержку. Августовский номер «Нового мира» (1989) вышел с «Архипелагом» (массивный кусок в девяносто страниц) тиражом в один миллион шестьсот тысяч экземпляров. Вырвавшись на простор, «Архипелаг ГУЛАГ» пошел в мир лавинообразно: журналы и издательства боролись между собой за право печатать все и немедленно. «Жаждали мы этого, бились за это — а сейчас неохватимо: такая скрытая лютая правда — полилась-таки по стране!.. Ничто не приходит поздно для того, кто умеет ждать».
В середине августа 1990 года вышел указ о возвращении гражданства 23-м лицам, включая Солженицына и Бродского. Но для Александра Исаевича немыслимо было ехать домой гостем или туристом. Только через год, 17 сентября 1991-го, было объявлено о прекращении дела по статье 64 УК РСФСР («измена родине»), возбужденного в 1974 году, за отсутствием состава преступления. А.И. Солженицын сделал «Заявление для прессы» о снятии юридического препятствия к возвращению на родину. Но его фактическое возвращение уже состоялось — страна придирчиво обсуждала его сочинения, как написанные давно, так и совсем новые: в сентябре 1990-го «Комсомольская правда» и «Литературная газета» напечатали статью Солженицына «Как нам обустроить Россию?» общим тиражом 27 млн. экземпляров. С огромным волнением Солженицыны переживали события августовского путча 1991 года. «Когда увидели мы по телевизору, как снимают краном “бутылку” треклятого Дзержинского, как не дрогнуть сердцу зэка?!.. Такого великого дня не переживал я за всю жизнь». Однако счастливые минуты обернулись жгучим разочарованием — победители алчно боролись за плацдармы в высоких кабинетах. Тотальный развал и расползание России, наступившие в 1992-м, Солженицын назвал исторической Катастрофой и воспринял ее как крушение своей собственной жизни. Но именно в этой обстановке было принято решение ехать домой, оставалось только купить или построить жилье, узаконить работу Русского Общественного Фонда, подготовить к переезду огромный архив. «Я боялся дожить в Вермонте до смерти или до последней телесной слабости. Умереть — я должен успеть в России. Но еще раньше успеть — вернуться в Россию, пока есть жизненные силы. Пока — ощущаю в себе пружину. Есть жажда вмешаться в российские события, есть энергия действовать. Плечи мои еще не приборолись, у меня даже — прилив сил… Что-то еще успею сказать и сделать?»
Весной 1994 года Солженицын и его жена покинули Америку (сыновьям предстояло доучиваться). Надежда и убежденность, что еще живым он вернется на родину, не покидали писателя все двадцать лет. «Смысл всякого эмигранта — возврат на родину. Тот, кто этого не хочет и не работает для этого, — потерянный чужеземец». Время возвращения стало триумфальным для Александра Исаевича, несмотря на трудности взаимного узнавания писателя и страны, от которой он был отторгнут на два десятилетия. В труднейший момент истории, когда отъезды из России становились все чаще, когда люди искали способ зацепиться за Европу или Америку, Солженицын возвратился, чтобы разделить судьбу соотечественников, а главное, создал прецедент — и стал поперек преобладающей тенденции. Он ступил на московскую землю не через Шереметьево — символ «отлетов», а через бескрайние пространства Колымы, братской могилы жертв ГУЛАГа. Но А.И. Солженицын предвидел, что даже и первые его шаги по России не будут легкими, что правящей столичной элите («эллипсоиду») резкая критика реформ встанет поперек горла. Он ездил по России, говорил с народом, называя режим «мнимой демократией», «хитроумным слиянием бюрократов, номенклатурщиков и прожженных дельцов». Правду о стране Солженицын пытался донести до сведения парламентариев, но те не проявили ни к писателю, ни к его слову никакого интереса. Страна увидела подлинное лицо тугоухой демократии, что воцарилась в России после 1993 года. «Солженицын несет весть о России, а она власти не нужна, не нужна Москве и Кремлю».
С декабря 1994 года А.И. Солженицын «был допущен» на телевидение — писатель собирал единомышленников и вел с ними диалог о самых насущных проблемах страны. С апреля 1995-го «Встречи с Солженицыным» на Общественном российском телевидении стали выходить в режиме монолога — пятнадцатиминутные передачи каждые две недели. Темы были острейшие: предвыборная кампания, избирательный закон, итоги Второй мировой войны и положение армии, роль профсоюзов и забастовочное движение, черные дыры Чечни, участь казачества, судьба брошенных соотечественников, народное образование и школа. Солженицына «терпели» полгода, а в сентябре 1995-го его программа без всяких объяснений была закрыта. А культурный круг по-прежнему волновался из-за «культа Солженицына» — дескать, писателю и о писателе никто не хочет говорить всю правду.
Правда же, непереносимая для многих завистливых собратьев, заключалась как раз в том, что Солженицын, привезя в Россию Собрание сочинений в двадцати томах и столько же своих книг в отдельных изданиях, устроился в стране не памятником самому себе, а живым и действующим писателем, благотворителем, деятелем культуры. В декабре 1995-го в Москве, на Таганке, усилиями Русского Общественного Фонда, правительства Москвы и парижского издательства «ИМКА-пресс» была открыта библиотека-фонд «Русское Зарубежье». Здесь нашла приют Всероссийская Мемуарная Библиотека — воспоминания, книги, фотографии, рисунки: А.И. Солженицын сдержал обещание, которое дал русским эмигрантам. За восемнадцать лет были собраны сотни рукописей — они обрели надежный дом в России, место вечного хранения. Весной 1995-го Солженицыну была вручена Литературная премия имени Бранкати. За три года Александр Исаевич написал и опубликовал, помимо больших публицистических работ, восемь двучастных рассказов. После изгнания вновь возникла потребность писать «Крохотки» — лирические зарисовки, стихотворения в прозе. «Только вернувшись в Россию, я оказался способным снова их писать, там не мог», — пояснял Солженицын «Новому миру», где были опубликованы четырнадцать миниатюр. Один за другим пошли в печать очерки из «Литературной коллекции» — заметки о Пильняке и Тынянове, Пантелеймоне Романове и Замятине, Шмелеве и Успенском, Марке Алданове и Андрее Белом, позже о Гроссмане, Бродском, Владимове — более 20 эссе из 40 написанных. В них А.И. Солженицын представал и как опытнейший читатель, и как мастер-художник. «Каждый такой очерк, — писал он о своей «Коллекции», — это моя попытка войти в душевное соприкосновение с избранным автором, попытаться проникнуть в его замысел, как если б тот предстоял мне самому, и в мысленной беседе с ним угадать, что он мог ощущать в работе, и оценить, насколько он эту задачу выполнил». В июне 1997-го писатель был избран действительным членом Российской Академии наук за работу, которая началась в 1947-м выписками из Даля и продолжалась несколько десятилетий: «Русский словарь языкового расширения» был признан высококвалифицированным научным трудом. Одним из итогов общения со страной (А.И. Солженицын объездил 26 областных центров, провел около ста общественных встреч) стала публицистическая книга «Россия в обвале» (1998). «Не закроем глаз на глубину нашего национального крушения, которое не остановилось и сегодня. Мы — в предпоследней потере духовных традиций, корней и органичности нашего бытия. Наши духовные силы подорваны ниже всех ожиданий».
В связи с 80-летним юбилеем А.И. Солженицын был награжден орденом РПЦ святого князя Даниила Московского и высшей государственной наградой — орденом святого апостола Андрея Первозванного. В театре на Таганке в день юбилея (11 декабря 1998) прошел спектакль «Шарашка» по роману «В круге первом». Приняв церковный орден, Солженицын со сцены театра вынужден был отказаться от ордена государственного. «От верховной власти, доведшей Россию до нынешнего гибельного состояния, я принять награду не могу — не та обстановка в стране». Реакция властей была предсказуема. «Его право принять либо не принять награду, но долг президента, так, как он его понимает, перед государством, — не оставить неотмеченным выдающегося человека в день его юбилея». В 1998 году стартовала Литературная премия Александра Солженицына для награждения из средств Фонда писателей, живущих в России и пишущих на русском языке, — об учреждении такой премии А.И. Солженицын мечтал почти четверть века. 2 июня 1999 года на Общем собрании Российской академии наук «за выдающийся вклад в развитие русской литературы, русского языка и российской истории» Солженицыну была вручена Большая золотая медаль имени М.В. Ломоносова. 13 декабря 2000 года в Москве состоялась церемония награждения писателя Большой премией Французской Академии Нравственных и Политических наук. Солженицын был назван одним из величайших людей столетия, главным действующим лицом истории. Огромный резонанс в России и в мире вызвала новая работа писателя — двухтомник «Двести лет вместе» (2001–2002), посвященный историческому соседству русского и еврейского народов. «Цель этой моей книги, отраженная и в ее заголовке, как раз и есть: нам надо понять друг друга, нам надо войти в положение и самочувствие друг друга. Этой книгой я хочу протянуть рукопожатие взаимопонимания — на все наше будущее. Но надо же — взаимно!» Многомесячная полемика, разгоревшаяся в связи с книгой, сразу ставшей интеллектуальным бестселлером, перевела воспаленный русско-еврейский вопрос в регистр культуры, запретной теме был придан потенциал спокойного, академического рассмотрения. Вместе с тем дискуссия вызвала и новый виток травли Солженицына в печати: пошли в ход клеветнические сюжеты, сфабрикованные еще в советские времена. Отвергая лживые нападки, Солженицын ответил клеветникам статьей «Протемщики света не ищут» (2003). В декабре 2003 года широко отмечалось 85-летие А.И. Солженицына. В Москве и Петербурге прошли научные конференции, посвященные творчеству писателя. В ноябре 2004-го состоялось вручение Солженицыну ордена святого Саввы Сербского 1-й степени — высшей награды Сербской Православной Церкви «за сохранение памяти о миллионах пострадавших в России и заботу о сербском народе, за неустанное свидетельство истины добра, покаяния и примирения как единого пути спасения». Пошатнувшееся здоровье Александра Исаевича (инфаркт, гипертонический криз) ограничило его публичные выступления, однако и годы, протекшие после юбилея, были полны активной жизни. Писатель сделал новую редакцию «Красного Колеса», написал сценарий многосерийного фильма по роману «В круге первом» (зимой 2006 года фильм был показан на телеканале «Россия» и получил приз ТЭФИ за лучший сценарий), работал над томами нового Собрания сочинений в тридцати томах (первые три тома вышли в 2006-м, еще четыре — в 2007-м, еще два — в 2008-м).
В мае 2007-го в десятый раз была вручена Литературная премия Александра Солженицына. 12 июня 2007 года в Кремле состоялось вручение Государственной премии РФ «За выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности» (награду приняла Н.Д. Солженицына). Президент РФ В. Путин поздравил А.И. Солженицына у него дома, в Троице-Лыково, где писатель жил с 1995 года. В связи с 80-летними годовщинами Февральской революции (2007) и Октябрьской революции (2008) в центральной печати была развернута широкая общественная дискуссия по работам Солженицына, посвященным истории русских революций. Спорящими сторонами писатель признан консолидирующей фигурой общенационального масштаба. 20 февраля 2008 года Солженицын обратился к живущим в Косово сербам с призывом не покидать родную землю. «За недавние тяжелые годы вы уже испытали разорение: и уничтожение православных храмов, и поджоги сербских школ, и прямые нападения с убийствами. Сохрани Господь вам мужества остаться близ родных могил и впредь», — отмечалось в послании писателя «сербам, остающимся жить на неправедно отрезаемой исторической земле края Косово». Это послание было направлено в белградскую газету «Вечерние новости». 7 марта в Библиотеке-фонде «Русское Зарубежье» состоялась торжественная церемония вручения премии Фонда «Живко и Милица Топалович» (Сербия) Солженицыну. Награду принял младший сын писателя Степан. Премия присуждена «великому писателю и гуманисту, чья христианская правдивость дарит нам храбрость и утешение». 5 марта 2008 года вышла в свет полная прижизненная биография писателя на русском языке (Людмила Сараскина. Александр Солженицын. М.: Молодая гвардия, 2008. Серия «ЖЗЛ. Биография продолжается»), в которую вошли материалы из личного и семейного архивов писателя, записи бесед с ним и с членами его семьи.
12 марта был объявлен лауреат Литературной премии Александра Солженицына 2008 года, писатель Б.П. Екимов. В объявлении о премии цитировались слова Солженицына о лауреате. «Борис Екимов вошел в литературу новым писателем -“деревенщиком”. Во множестве ярких рассказов и очерков Екимов рисует мало кому знакомую обстановку нынешней сельской местности, с ее новым бытом, манящими возможностями и крутыми угрозами. Этот живой поток екимовских картин, раздвигая наши представления о непростой жизни сегодняшней деревни, помогает восстановить, хотя бы мысленно, единство национального тела. А уж как интересно послушать суждения из донской глубинки — о событиях новейших».
2 апреля газета «Известия» (№ 58) опубликовала манифест Солженицына «Поссорить родные народы?» — о недостойном поведении украинской политической элиты в отношении «Голодомора» как акции, направленной якобы исключительно на уничтожение украинского народа. Писатель продолжал в меру сил следить за литературными и общественными процессами в России и за ее пределами. 30 мая он был награжден Международной литературной премией им. Христо Ботева (Болгария) — «за целостное творчество, непримиримую гражданскую позицию, самоотверженную защиту основных нравственных и эстетических принципов человеческой цивилизации». Награда была вручена сыну писателя Степану в Софии. «Я вижу в Вашей награде, — писал в благодарственном письме А.И. Солженицын, — проявление родства наших культур и глубину нашей общей исторической памяти. Кланяюсь болгарской земле». Это письмо стало последним публичным выступлением писателя.
А.И. Солженицын скончался 3 августа 2008 года незадолго до полуночи в своем загородном доме в результате острой сердечной недостаточности. Прощание состоялось в Российской академии наук, панихида и похороны прошли в Донском монастыре — место упокоения в центральной части старого монастырского кладбища, за алтарем храма Иоанна Лествичника, рядом с Василием Ключевским, было выбрано писателем еще при жизни. Ветеран Великой Отечественной войны А.И. Солженицын был удостоен воинских почестей и траурных залпов. Отечественные и мировые СМИ писали о его кончине как о завершении целой эпохи, а о нем самом — как о литературном титане, гениальном художнике слова, последнем великом писателе современности, выдающемся борце с неправдой этого мира, его нравственном барометре.
Автор Л.И. Сараскина. Титульное фото – Ю.Н. Феклистов