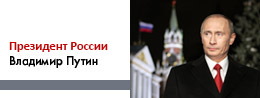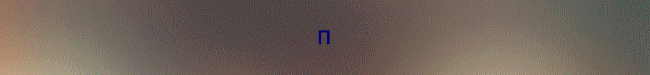ОКБ КАМОВ
 Мир авиации. Уже более ста лет он занимает особое, уникальное место среди других сфер человеческой деятельности. Воплощает в себе торжество создателя, творца, а значит – прогресс общества, когда речь идет и о сугубо гражданских категориях, и о весьма чувствительной теме – военной. Здесь ежедневно идет недоступная глазу обывателя ожесточенная борьба авиационных фирм ведущих стран мира. Россия при всех метаморфозах и проблемах последних лет непосредственно участвует в этих сложнейших процессах.
Мир авиации. Уже более ста лет он занимает особое, уникальное место среди других сфер человеческой деятельности. Воплощает в себе торжество создателя, творца, а значит – прогресс общества, когда речь идет и о сугубо гражданских категориях, и о весьма чувствительной теме – военной. Здесь ежедневно идет недоступная глазу обывателя ожесточенная борьба авиационных фирм ведущих стран мира. Россия при всех метаморфозах и проблемах последних лет непосредственно участвует в этих сложнейших процессах.
В предыдущих изданиях читатель имел возможность ознакомиться с историей ряда авиационных российских компаний и их лидеров. Мы продолжаем эту тему. Осознанный выбор издателя выпал на знаменитую вертолетную фирму, которая, и это традиция, носит имя ее создателя Н.И. Камова. Его преемник Сергей Викторович Михеев свыше 30 лет возглавляет компанию, задает тон в российском и мировом вертолетостроении. Материал о личной судьбе С.В. Михеева представлен в разделе «Человек века» данного издания.
Многие годы любители авиации, да и специалисты часто спрашивают: почему фирма «Камов» является единственным ОКБ в мире, конструирующим вертолеты соосной схемы? К ответу на этот вопрос придется прибегать в этом очерке не единожды. И начать придется с середины XVIII века, когда русский ученый-энциклопедист Михаил Васильевич Ломоносов высказал научную гипотезу о возможности исследования верхних слоев атмосферы с помощью специально построенного летательного аппарата, способного поднимать регистрирующие метеорологические приборы. В архиве Российской академии наук сохранилось несколько документов, посвященных работе М.В.Ломоносова по созданию «аэродромической машины» для этих целей. Они дают основание утверждать, что М.В. Ломоносов предлагал построить первый в мире малоразмерный беспилотный вертолет соосной схемы.
После М.В. Ломоносова первые упоминания об исследованиях наших соотечественников по винтокрылой тематике появились к концу 1960-х годов XIX века.
В 1970-х годах создаются проекты винтокрылых машин с достаточно продуманными общей компоновкой аппарата и конструкцией отдельных частей и деталей. В дальнейшем российские изобретатели и ученые в своих проектах предлагают различные схемы винтокрылых аппаратов: соосную, продольную, поперечную и одновинтовую.
Большой вклад в развитие вертолетов соосной схемы сделан в период с 1870 по 1917 год отечественными конструкторами. В 1907 году Выгорницкий построил первый малоразмерный вертолет соосной схемы с двигателем внутреннего сгорания. Вслед за этим создаются натурные образцы вертолетов соосной схемы Ч. Таньским (1909), И.И. Сикорским (1909, 1910), К.А. Антоновым (1910), В.Н. Левицким (1911), К.Е. Морозом (1914) и И.А. Эйда (1915). Для сравнения: в этот период было построено только два натурных образца вертолета одновинтовой схемы и по одному образцу — продольной и поперечной схем.
Прежде чем перейти к описанию жизнедеятельности фирмы, которая во всем мире известна под именем «Камов», вернемся к истории (вернее, ее фрагментам) мирового и отечественного вертолетостроения.
Впервые четырехвинтовой вертолет изобретателей братьев Бреге и профессора Ш. Рише оторвался от земли 24 августа 1907 года во Франции. В ноябре того же года там же на небольшую высоту поднялся двухвинтовой вертолет продольной схемы П. Корню. В 1914 году вертолет Е.Муфорда в Великобритании совершил первый полет на малой высоте, а в 1922 году в США на вертолете русского эмигранта Г.А.Ботезата, профессора Петербургского политехнического института, было поднято в воздух уже четыре человека. Вертолет конструкции Э. Эмишена (Франция) пролетел один километр по замкнутому маршруту в мае 1924 года.
В 1930-1940-е годы как в Советском Союзе так и за рубежом происходило накопление научных и экспериментальных данных в области вертолето-строения, послуживших трамплином для перехода на новый уровень проектирования винтокрылых машин. Во время образовавшейся «паузы» выдвинулись на передний план автожиры — разновидность винтокрылых аппаратов. Идея автожира с авторотирующим несущим винтом, не теряющим частоты вращения при отказе двигателя в полете, возникла у испанского инженера Хуана де ла Сьервы, в будущем известного авиаконструктора. Сьерва создал несколько автожиров. На автожире С-4 с шарнирным креплением лопастей в январе 1923 года был совершен первый удачный непродолжительный полет. Наиболее известен автожир С-30 (1934), выпускавшийся серийно в Англии. Автожиры Сьервы строились по лицензии во Франции, Германии, Японии и США.
Первый полет первого российского автожира
КАСКР-1 — «Вертолет»*
25 сентября 1929 года около 7 часов утра на Центральном аэродроме в Москве совершен первый полет первого советского вертолета (винтокрылого летательного аппарата) — автожира КАСКР-1 «Красный инженер» конструкции Николая Ильича Камова и Николая Кирилловича Скржинского. Этот день по праву можно считать днем рождения отечественных винтокрылых машин.
В 1928 году 26-летний Камов и 24-летний Скржинский работали на авиационном заводе ? 22 имени Десятилетия Октября в конструкторском бюро П. Ришара, занимавшемся созданием гидросамолетов. Ознакомившись в иностранных авиационных журналах с работами Сьервы по автожирам, сумев понять и оценить их рациональность и перспективность, они 1 ноября 1928 года начали проектные работы и обратились в заводскую ячейку Осоавиахима с предложением о постройке опытного автожира, на котором будут использованы фюзеляж, силовая установка, шасси и мотор Рон мощностью 120 л.с. самолета «Авро-504».
Ячейка Осоавиахима, заручившись поддержкой завкома профсоюза, обратилась 5 ноября 1928 года в Центральный Совет (ЦС) Осоавиахима с просьбой об отпуске средств, выделении необходимых авиаматериалов и самолета «Авро» с мотором, а также об оказании содействия в получении «всех имеющихся в ЦАГИ теоретических и опытных материалов по винтокрылым аппаратам».
После этого молодые конструкторы получили от авиационной секции Осоавиахима аванс в размере 150 рублей и взялись за разработку проекта своего автожира. Трудились они над ним во внеурочное время, после окончания рабочего дня. Их самостоятельное проектирование, по-видимому, никакой ревности ни у руководителей конструкторского бюро, ни у его коллектива не вызывало.
Через 58 календарных дней после обращения в ЦС Осоавиахима проектирование аппарата в основном завершилось, и через 95 дней законченный проект был предъявлен для «осмотра» технической комиссии авиационной секции Осоавиахима под председательством Б.Н. Юрьева.
Настоящим удостоверяем, что членам яч.Осоавиахима при заводе ? 22 инженерам-конструкторам КАМОВУ Н.И. и СКРЖИНСКОМУ Н.К. заводской яч. Осоавиахима поручается детальная разработка проекта опытного автожира, организация кружка при ячейке, проведение постройки аппарата и ведение всех дел технического характера, связанных с постройкой, под контролем яч.Осоавиахима.
Ячейка Осоавиахима просит Центральный Совет оказать поддержку как в смысле отпуска средств, так и для получения необходимых авиаматериалов и самолета «АВРО» с мотором.
Чрезвычайно желательно оказать содействие конструкторам в получении всех имеющихся в ЦАГИ технических и опытных материалов по этому вопросу.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЯЧЕЙКИ ОСОАВИАХИМА (Лукандин)
Комиссия поддерживала начинание инженеров Камова и Скржинского в деле развития нового способа летания, «могущего принести реальную пользу для воздушного флота СССР». Из протокола заседания технической комиссии видно, что, хотя Камов и Скржинский опирались на идеи и технический опыт Сьервы, при проектировании автожира им пришлось проявить большую самостоятельность, умение разбираться в сложных технических вопросах и немалую изобретательность.
В протоколе заседания комиссии впервые появляется слово ВЕРТОЛЕТ, придуманное Камовым и Скржинским как название для разрабатываемого ими аппарата, ставшее в настоящее время общепризнанным русским термином, обозначающим винтокрылые летательные аппараты.
В результате работы комиссии стало ясно: аппарат строить нужно. Наступило время организационных решений. Они не заставили себя долго ждать. Через 19 дней после получения положительного заключения состоялось межведомственное техническое совещание о выделении самолета «Авро», предоставлении помещения для постройки вертолета, выделении необходимых материалов и назначении механика для участия и постоянного наблюдения за постройкой. Успеху способствовало и мнение П.И.Баранова, начальника ВВС и председателя авиационной секции Центрального Совета Осоавиахима.
Вскоре «конструкторская группа КАСКР» пополнилась механиком — 21-летним Э.А.Крейндлиным, который «изъявил согласие работать в общественном порядке на авиационном поприще» (то есть без зарплаты).
Обращает на себя внимание общая доброжелательность в отношении к новому делу. Конструкторы освобождались от оплаты помещения, в котором производилась постройка верто-лета, освещения, отопления и других расходов по содержанию здания, а также от оплаты накладных расходов. Им предоставлялось право проведения сверхурочных работ.
Особенно внимателен был к молодым конструкторам Осоавиахим, включивший в соглашение с ними следующие вполне лояльные условия:
«Инженеры Камов и Скржинский не ответственны за промедление, произведенное заводом ? 39, если таковое произошло не вследствие поздней дачи заказа или материала, а также в случае отсутствия возможности приобрести своевременно те или иные материалы...
...Поскольку конструкция является опытной, конструкторы не несут ответственности за результат испытаний в случае, если отрицательный результат произойдет не по вине конструкторов или же если вследствие новизны схемы они не могли быть предусмотрены...».
Договор датирован 22 мая 1929 года. На постройку вертолета выделялось
3 месяца. В воскресенье 1 сентября того же года, то есть практически точно в установленный срок, законченный аппарат был вывезен на аэродром.
Вот что писал об этом Н.И. Камов:
...Первого сентября 1929 года в торжественной обстановке мы выкатили наш вертолет с завода на аэродром. Для того чтобы не поломать при перевозке лопастей, мы отсоединили лопасти от поддерживающих тросов и опустили их концы на землю. Мы со Скржинским, Крейндлиным, еще трое рабочих с завода стали по трое за каждым крылом и начали выкатывать вертолет. Конец каждой лопасти нес один рабочий. Такая торжественная процессия проследовала на аэродром в отведенное место. Были вновь подвешены лопасти. Дул сильный ветер. Вертолет стоял хвостом к ветру. Сейчас кажется диким, как это мы поставили его таким образом. Сейчас для нас существует жесткое правило — ставить вертолет носом против ветра. Но в то время это не играло для нас никакой роли. Мы были в святом неведении. Ветер начал крутить лопасти, и, о ужас, они начали крутиться хвостиками вперед! Мы были в страшном волнении. Как же так? Все наши расчеты рушились. Мы решили остановить лопасти и немножко их раскрутить от руки. Дали энергично несколько оборотов от руки носками вперед... и лопасти завертелись все быстрее и быстрее. Ротор начал набирать обороты. Нашей радости не было предела. Ротор авторотировал!
Но радость наша была непродолжительна. Как только обороты ротора достигли примерно 70–80 оборотов в минуту, под действием сильного ветра тонкие поддерживающие тросы растянулись, раздался треск — трос лопнул, и лопасть начала опускаться. Среди абсолютной тишины этот треск вызвал среди присутствовавших буквально потрясение. Все ждали, что сейчас что-то произойдет, но ничего сделать не могли. Громадный винт продолжал безмолвно вращаться, причем одна лопасть опускалась неумолимо все ниже и ниже. Прошло еще несколько секунд. Снова раздался треск — лопнул второй поддерживающий трос. Вторая лопасть начала опускаться. Все стояли затаив дыхание и не двигаясь. Раздался треск — первая лопасть ударилась в руль поворота. Затем почти мгновенно за первым ударом — второй; обе лопасти оказались поломаны. Ротор перестал вращаться. Преодолевая странное чувство скованности, медленно подошли к машине. Все молчали. Трудно было отделаться сразу от гипнотизирующего чувства, которое родил громадный двенадцатиметровый безмолвно вращающийся винт... С тяжелым сердцем покатили разбитую машину на завод. Шли опустив головы, со сжатыми зубами. Рабочие и инженеры завода всячески утешали нас и ободряли, рассказывая различные случаи из своей жизни. Но это не могло рассеять страшной горечи первой неудачи.
Обессиленные громадным напряжением многих месяцев беспрерывной работы, невероятным усилием воли мы заставили себя вновь взяться за работу. Отремонтировали оперение, лопасти, заменили тросы, просмотрели всю машину. Ремонт занял больше трех недель.
В шесть часов утра, в тихое, спокойное утро 25 сентября 1929 года мы вновь вывезли наш первый вертолет КАСКР-1 «Красный инженер» на аэродром. Снова торжественное шествие: четверо рабочих несут внешние концы лопастей; по два человека шествуют за крылом, подталкивая машину. Целая плеяда болельщиков безмолвно сопровождает, окружив вертолет со всех сторон.
Поставили вертолет параллельно шоссе в направлении от центра города. Залезли в кабины: в переднюю летчик И.В. Михеев, в заднюю Н.И. Камов. В баки залито 48 кг бензина и 16 кг масла. Скржинский влез на крыло, подготовившись раскручивать ротор перед взлетом. Крейндлин расположился у пропеллера. Мы с Михеевым привязались ремнями (плечевых ремней на вертолете не было). Прокрутили винт. Раздалась обычная команда летчика: «Контакт». — «Есть контакт!» Крейндлин рванул винт. Мотор заработал. Скржинский, стоя на крыле, рукой начал раскручивать ротор, налегая на комлевые части проходящих над ним лопастей.
Михеев прибавил газ, и вертолет сдвинулся с места. Скржинский соскочил с крыла. Тахометр ротора показывал 40 оборотов в минуту. Михеев дал полный газ. Вертолет начал разбегаться, набирая скорость. Обороты ротора быстро нарастали.
Я поднял голову. Странно было смотреть на быстро вращающиеся над головой лопасти. Обратил внимание на странное поведение втулки ротора: она вращалась какими-то рывками. Но по мере нарастания оборотов рывки уменьшились и втулка завертелась быстро и на глаз равномерно. Немного отжав ручку, Михеев поднял хвост вертолета. Начала ощущаться сильная вибрация машины. Пробежав метров 60, вертолет оторвался от земли. Я взглянул на тахометр ротора — он показывал 90 оборотов в минуту. Радостное чувство наполнило душу. Вот он, наконец, первый полет первого советского вертолета!..
4 октября около 8 часов утра состоялся второй полет вертолета. После раскрутки несущего винта и небольшого разбега вертолет плавно оторвался от земли и на высоте примерно 1,5 метра прошел расстояние около 100 метров и так же плавно спустился. В полете был устойчив.
При следующей попытке выполнить полет 12 октября 1929 года произошла авария вертолета. Из-за ремонта аэродрома старт был взят приблизительно под углом 30–40° к направлению ветра. Перед отрывом возник левый крен, «правое колесо шло в воздухе, а левое — по земле», после чего вертолет опрокинуло на левый борт. Находившийся на борту Камов отделался легким ушибом руки, а летчик Михеев остался невредим.
После происшедшей аварии, несмотря на то что аппарат вполне подлежал ремонту, который впоследствии и был выполнен, испытания вертолета КАСКР прервались более чем на 10 месяцев.
Планируя свою работу, Камов и Скржинский считали, что проектирование и постройка вертолета займут 9 месяцев. В то же время они представляли себе, что все испытания вертолета продлятся два календарных месяца.
Подобная уверенность в успехе порождала энтузиазм, который сильно помог конструкторам в период проектирования и постройки вертолета. Но она же сослужила им плохую службу после столкновения с множеством трудностей в самом начале испытаний. За полтора месяца испытания аппарата удалось провести только в течение 5 дней, остальные дни были посвящены ремонту и доводочным работам. При этом первый и третий дни испытаний закончились серьезными поломками аппарата, а пятый — аварией, которая едва не стала катастрофой.
Такое начало могло обескуражить кого угодно, и тем более молодых неопытных конструкторов, преисполненных уверенности в быстром успехе. Их энтузиазм исчез и сменился апатией и мыслями о бесперспективности затеянного дела. После аварии Камов и Скржинский были подвергнуты резкой критике за серьезные ошибки и упущения при проведении испытаний как в отношении методики испытаний, так и в отношении ведения летной и другой документации (испытания самолетов шли уже несколько десятилетий, и выработались определенные правила их проведения, которые совершенно не были учтены при первых испытаниях КАСКР из-за неопытности его конструкторов). Эта критика была особенно неприятна потому, что она сменила общее доброжелательное и приветливое отношение.
Для того чтобы продолжить испытания, нужно было снова идти просить средства для ремонта вертолета, просить выделить новый мотор, объяснять всем и каждому существо происшедшего, заверять в том, что все понято и неприятности больше не повторятся. И все это в условиях, когда у тех, кто поддерживал работы по вертолету, не могло не снизиться доверие к компетентности молодых конструкторов из-за действительно совершенных ими ошибок. И конечно, не могли не найтись люди, которые давно говорили, что дело обязательно должно кончиться неприятностями, что этим конструкторам нельзя было доверять, что им не хватает образования и опыта, что вертолетное дело — тонкое, и так далее...
Происходящее было выше тогдашних возможностей Камова и Скржинского. Это потом они выработают в себе настоящий «авиационный», «вертолетный» характер, всегда настроенный на то, что все хорошее дается с большим трудом, позволяющий мужественно встречать неудачи и неблагоприятные повороты судьбы, заставляющий тем быстрее находить решения сложных технических задач, чем труднее сложившаяся обстановка, требующий бескомпромиссной самокритики. А пока... пока им нужно было отдохнуть после непривычно длительного, может быть, предельного напряжения интеллектуальных и физических сил, осмыслить происшедшее, наметить пути дальнейших действий. Поэтому они на некоторое время, как говорится, вышли из игры.
Вскоре на базе КАСКР-1 молодые конструкторы построили более совершенный автожир КАСКР-2 (1930). В оценке летных характеристик автожиров принимали участие специалисты НИИ ВВС. С 1929 по 1931 год на них было выполнено 79 испытательных полетов. В группе КАСКР проходил стажировку и студент Новочеркасского политехнического института М.Л. Миль.
В 1930 году при экспериментальном отделе ЦАГИ в секции особых конструкций (СОК) образована группа по проектированию автожиров. В 1931 году в этой группе начал работать Н.И. Камов. В 1933 году СОК преобразуется в отдел особых конструкций (ООК), в нем сформировано три бригады по разработке и постройке автожиров, которые возглавили Н.И.Камов, В.А. Кузнецов и Н.К. Скржинский. Бригадой аэродинамики руководил М.Л. Миль.
Успех автожиров в СССР привел к форсированию работ вертолетной группы экспериментально-аэродинамического отдела ЦАГИ, возглавляемой Б.Н. Юрьевым, которая занималась постройкой и испытаниями первого экспериментального вертолета ЦАГИ 1-ЭА. Вертолет одновинтовой схемы с жестким креплением лопастей несущего винта создан под руководством А.М.Черемухина, который стал и его первым пилотом. В 1932 году на небольшом аэродроме ЦАГИ, располагавшемся вблизи подмосковной станции Ухтомская Казанской железной дороги, А.М.Чере-мухин на этом вертолете достиг рекордной высоты — 605 м. Для сравнения: официально зарегистрированный рекорд высоты полета, на итальянском вертолете «Асканио», в то время составлял 18 м.
На том же аэродроме ЦАГИ производились испытательные полеты автожиров. В честь испытательного полета вертолета ЦАГИ 1-ЭА и в память о его первом пилоте — в дальнейшем докторе технических наук профессоре — А.М.Чере-мухине на территории бывшего аэродрома (ныне территории фирмы «Камов») установлен памятный знак в виде лопасти несущего винта и силуэта вертолета, движущегося по спиральной траектории.
Автожиры А-7 и АК*
Следующей работой Н.И. Камова стал автожир А-7. Проектирование автожира началось в 1931 году в ЦАГИ, в секции особых конструкций. В его создании принимали участие А.Е. Лебедев, М.Л. Миль, Б.В. Богатырев, В.С. Морозов. В этом уникальном аппарате воплотились как идеи применения автожира, так и новые технические решения, касающиеся его конструкции и оборудования. Он создавался прежде всего специально для военных целей по техническому заданию ВВС РККА и предназначался для корректирования артиллерийского огня, связи и ближней разведки. Предусматривалось также его применение с кораблей ВМФ.
Экипаж автожира состоял из пилота и стрелка. В состав вооружения машины входили три пулемета калибра 7,62 мм, бомбы и снаряды РС-82. Впечатляют его летно-технические данные: мощность двигателя — 480 л.с.; взлетная масса —
2300 кг; полная нагрузка — 800 кг; максимальная скорость — 218 км/ч; продолжительность полета — 4 ч; практический потолок — 4700 м.
Были созданы три модификации автожира А-7: А-7 — опытная машина;
А-7 бис — опытная доработанная машина, отличающаяся от предшественницы улучшенной аэродинамикой, модернизированным оперением; А-7-3а — серийная машина с несколько меньшими полетной массой и массой пустой машины.
Летные испытания автожира А-7 начались в 1934 году, а в мае 1937 года они были продолжены на модификации А-7бис. Их проводили летчики-испытатели
Д.А. Кошиц, С.А. Корзинщиков и В.А. Карпов. На этих двух машинах они выполнили большой объем исследований, связанных с определением летных свойств автожира на различных режимах полета, характеристик махового движения лопастей, устойчивости и управляемости и с отработкой техники пилотирования. Летные испытания и доводка этого автожира стали солидным фундаментом для дальнейшего развития винтокрылых летательных аппаратов.
Зимой 1939/40 года, во время войны с Финляндией, два автожира – А-7 и
А-7бис были отправлены на фронт для корректировки артиллерийской стрельбы. Их пилотировали летчик-испытатель инженер-полковник А. Ивановский и летчик-испытатель подполковник Д. Кошиц. До окончания войны, когда была прорвана линия Маннергейма и взят штурмом город Выборг, автожиры сделали несколько разведывательных вылетов.
Весной 1941 года Аэрофлотом и Наркомземом СССР была организована экспедиция в Среднюю Азию, в предгорья Тянь-Шаня, где летчик-инженер
В.А. Карпов на автожире А-7 успешно выполнил опыление массивов плодовых деревьев.
Автожиры А-7-3а, головной серийный образец которого успешно прошел испытания в сентябре 1940 года, были направлены в 1-ю корректировочную эскадрилью ВВС. Они приняли участие в Великой Отечественной войне на Западном фронте под Смоленском. На автожирах А-7 проводилась корректировка огня артиллерии и был выполнен ряд ночных полетов через линию фронта в расположение партизанских формирований.
В ночных полетах автожиры планировали над окопами и сбрасывали на позиции врага листовки. Сложность применения автожиров на фронте заключалась в их маскировке. Замаскировать лопасти очень трудно. Положительным качеством оказалась живучесть автожиров А-7бис. Один из них, попавший под обстрел крупнокалиберного пулемета, был пробит во многих местах. Пробитыми оказались фюзеляж, оперение, лопасти. Наблюдатель получил ранение в обе ноги, а летчик — в руку, но машина осталась управляемой и благополучно долетела до расположения своих войск. В поселке Билимбай, куда во время войны эвакуировалось ОКБ
Н.И. Камова, производился ремонт автожиров и обучение летно-технического состава для ВВС.
Автожир А-7 по сей день остается самым крупным и самым скоростным из серийно построенных автожиров.
В начале 1940 года по инициативе Н.И. Камова в районе станции Ухтомская на базе сооружений аэродрома «Подосинки» был организован первый авиационный завод (? 290) по производству автожиров. Главным конструктором и директором назначили Н.И. Камова, а его заместителем — М.Л. Миля. На территории этого завода позднее разместилось вертолетное ОКБ, которое возглавил Н.И. Камов.
В 1940 году началась разработка автожира АК. Он проектировался в соответствии с тактико-техническими требованиями ВВС Красной Армии как подвижный артиллерийский наблюдательный пункт для определения координат невидимых с земли целей и корректировки артиллерийской стрельбы. Предусматривалась транспортировка автожира в боевых колоннах за грузовиком по шоссейным и грунтовым дорогам. Боеготовность машины, то есть время от начала подготовки ее из транспортировочного положения до взлета с шоссе, не должна была превышать 15 минут.
Машина прорабатывалась в двух вариантах: автожира-геликоптера (вертолета) и автожира с прыжковым взлетом. В эскизном проекте автожир АК сравнивался с лучшим на то время немецким самолетом короткого взлета «Аист», имевшим так же, как и АК, экипаж из двух человек и двигатель мощностью 240 л.с.
Автожир АК по совокупности летных и взлетно-посадочных характеристик превосхо-дил лучший самолет, аналогичный по весовой категории и назначению. Война вынудила прекра-тить производство авто-жиров. Постройка опытно-го экземпляра автожира АК с «прыжковым» взлетом была остановлена в 1943 году. К этому моменту его создатель Н.И. Камов располагал достаточными знаниями и опытом для конструирования несущей системы: лопастей несущего винта со стальным трубчатым лонжероном, втулки винта с шарнирным креплением лопастей, устройства автоматического демпфирования махового движения лопастей, системы управления тягой несущего винта и так далее. Автожир обладал необходимыми устойчивостью и управляемостью в полете. В его проектировании принимали участие М.Л. Миль, В.А. Кузнецов, Н.Г. Русакович, Е.И. Ошибкин и другие. По словам М.Л. Миля, от автожира АК оставался один шаг до вертолета, следовало только создать главный редуктор для передачи крутящего момента от двигателя к несущему винту.
После окончания войны страны с развитой авиационной промышленностью, в числе которых был и СССР, отдали предпочтение вертолету, способному осуществлять висение, перемещения с малой скоростью в любом направлении, а также вертикальный взлет и посадку. Автожир на долгие годы был предан забвению. Однако примечательно, что именно пионеры автожиростроения — Н.И. Камов, Н.К. Скржинский,
М.Л. Миль, В.А. Кузнецов и другие — стали ключевыми фигурами в области вертолетостроения.
Первые вертолеты соосной схемы*
В 1945 году Николаю Ильичу Камову исполнилось 43 года, он успел много повидать и испытать в жизни. Были радости, были и неудачи. В течение двух предшествующих лет Николай Ильич работал в ЦАГИ над кандидатской диссертацией, в которой обобщил свой опыт автожиростроения. Но главной его мечтой оставалось возвращение к творчеству конструктора. Разработанный им проект одновинтового геликоптера под названием «ЮрКа» (Юрьев–Камов), так и оставался только на бумаге — на него не нашлось ни денег, ни заказчика. Бывший заместитель Н.И. Камова — М.Л. Миль защитил кандидатскую, затем докторскую диссертации и стал начальником 5-й лаборатории в ЦАГИ. Он предложил Н.И. Камову сотрудничество с существенным изменением ролей: главный конструктор — М.Л. Миль, а Н.И. Камов — его заместитель. Николай Ильич отказался и продолжил трудиться над диссертацией, параллельно подрабатывая в МАИ.
К концу 1945 года Н.И. Камов на основании собственного опыта проектирования и постройки автожиров, изучения научных и экспериментальных материалов по советским и зарубежным винтокрылым машинам приходит к решению вплотную заняться созданием вертолета. В результате длительных исследований и анализа он отвергает одновинтовую схему вертолета, затем продольную двухвинтовую и отдает предпочтение соосной схеме.
3 мая 1946 года вышел приказ ? 26 заместителя министра и начальника ЦАГИ С.Н. Шишкина о переводе группы Н.И. Камова в Бюро новой техники ЦАГИ (БНТ).
Официально Николай Ильич получил задание написать книгу о винтовых летательных аппаратах. Но фактически в БНТ началось проектирование одноместного вертолета Ка-8 соосной схемы с мотоциклетным мотором.
Николай Ильич изобрел совершенно необычную систему управления соосными несущими винтами и решил применить руль мотоциклетного типа, который, по первоначальному замыслу, должен был служить и для путевого управления. Правая рукоятка руля предназначалась для управления сектором газа. Обсуждался вопрос о необходимости муфты сцепления, и Николай Ильич все же решил ее поставить. Тормоза несущего винта не было, как не было радиостанции и даже парашюта у летчика.
Из-за большой массы и несовершенства мотоциклетного двигателя требовалось создать особо легкую, буквально ювелирную конструкцию машины. И здесь талант Н.И.Камова проявился в полную силу. Многие главные агрегаты он вычерчивал и рассчитывал сам. По свидетельствам очевидцев, от его стиля оставалось неизгладимое впечатление — конструкция как бы сама появлялась на листе ватмана.
Первоначальная смета на Ка-8 предусматривала сумму в 445 тысяч рублей. Потом Николай Ильич сообщил, что «нам дали миллион», а 13 ноября 1946 года приказом МАП ? 721 на Н.И. Камова было возложено выполнение задания правительства по созданию вертолета. 11 декабря последовал приказ ? 777 об увеличении штата группы и выделении дополнительной площади. Адмирал И.С. Юмашев утвердил тактико-технические требования на Ка-8.
Проектирование вертолета продвигалось достаточно быстро. В группе было уже две бригады: А.Н. Конарев руководил конструкторской бригадой, а В.Б. Баршевский — расчетной. Группа летных испытаний включала начальника В.А. Карпова, летчика М.Д. Гурова и авиамеханика.
Признанным лидером считался Н.И. Камов, защитивший кандидатскую диссертацию по автожирной тематике. Ему принадлежало право единоличного принятия окончательного решения по любому вопросу. Ка-8 — это его детище. Недаром соратники Н.И. Камова предложили назвать вертолет-малютку «Иркутянин» —
в честь родины конструктора города Иркутска.
Механические детали вертолета делались на заводе ? 456, относившемся к ОКБ А.Н. Туполева, но Андрей Николаевич, по свидетельству В.Б. Баршевского, сурово наказывал рабочих, замечая на станках «чужие» детали.
Рассказывает В.Б. Баршевский:
Для сборки на заводе ? 456 нам выделили огороженный угол в полуразрушенном и неотапливаемом цехе, где были сложены двигатели ракет «Фау-2», привезенные из побежденной Германии. Наш новый сотрудник Мурылев набрал бригаду рабочих, с завода в Филях привезли ферму, а из НИИ, где работал знакомый Николая Ильича стратонавт, доставили баллоны. Поставив ферму на баллоны, Камов первым забрался на нее и позвал к себе всех нас — человек шесть-семь. «Теперь попрыгаем», — сказал Николай Ильич, и мы вместе с ним, взявшись за руки, чтобы не упасть, стали подпрыгивать. «Теперь все на весы, а вы, Володя, пишите акт об испытании на прочность», — последовала команда.
К тому времени уже был принят на работу летчик-испытатель М.Д. Гуров, старый знакомый и соратник Николая Ильича. Начальником ЛИС (летно-испытательной станции) назначили Владимира Алексеевича Карпова, инженера и летчика, еще до войны летавшего на автожире А-7 в предгорьях Тянь-Шаня. Помощником у него стал А.М. Конрадов (будущий руководитель ЛИС), перешедший из расчетной бригады.
12 ноября 1947 года Гуров выполнил первый свободный полет по кругу. Выпал снег, и посадочную площадку обозначили ветками ели. Михаил Дмитриевич старался приземляться в центре площадки и с каждым разом делал это все более уверенно.
Во время одного из полетов на высоте 200 м внезапно смолк перегревшийся двигатель — и машина резко скабрировала. С земли было хорошо видно, как в наступившей тишине Гуров перевел вертолет в планирование, потом попробовал «подорвать» его в воздухе общим шагом и ручкой, как бы имитируя посадку. Машина послушно скабрировала. Летчик снова перевел ее в планирование и, повторив маневр выравнивания, посадил вертолет на глубокий снег. Баллоны скользнули по снегу, потом зарылись в него, и вертолет плавно опрокинулся вперед. Когда мы подбежали, Михаил Дмитриевич, живой и невредимый, уже выбрался из кресла и успел закурить. Он приобрел опыт посадки на режиме авторотации, даже не получив ушибов. Это была первая посадка соосного вертолета с остановившимся двигателем. Нашли подтверждение и идеи главного конструктора, заложенные в компоновку машины. Вертолет своими агрегатами защитил летчика от травм.
Испытания продолжались, и Николай Ильич ставил перед летчиком вс? более сложные задачи.
Одновременно с проектированием, постройкой и испытаниями Ка-8 Николай Ильич закончил и отправил в Оборонгиз рукопись своей книги «Винтокрылые летательные аппараты». Имея коллектив, который размещался в трех небольших комнатах, Камов мечтал об огромных, мощных машинах. Первым из них был четырехвинтовой тяжелый транспортный вертолет «Иван Грозный», в фюзеляже которого десантники сидели двумя рядами, спина к спине, и могли выпрыгивать на землю на режиме висения через открывающиеся вверх створки-двери. Шасси было не колесным, а гусеничным. Второй проект — одноместный истребитель вертикального взлета и посадки с тремя мощными четырехрядными поршневыми двигателями
В.А. Добрынина и соосными винтами.
Лето 1948 года принесло Н.И. Камову и его помощникам новые заботы. Вертолет взлетал все хуже и хуже. Тем не менее машина начала летать по программе подготовки к воздушному параду в День авиации в Тушино.
Совершенно неожиданно министерство приказом от 1 июня 1948 года на основании решения Совмина прекратило финансирование работ по Ка-8. Уже было истрачено 2,5 млн. рублей, и необходимо было еще тысяч пятьсот. Николаю Ильичу с трудом удалось добиться распоряжения заместителя министра С.Н. Шишкина о том, чтобы для подготовки к параду в группе Камова на полтора месяца оставили 16 человек и выделили 240 литров этилового спирта. На аэродром приехал командующий парадом генерал В.И. Сталин. Он посмотрел, как летает вертолет, поговорил с Гуровым. На репетиции парада Василий Сталин обратился к Главному маршалу авиации
К.А. Вершинину с просьбой разрешить принять на довольствие сотрудников группы Камова, которые не получали ни зарплаты, ни карточек.
Наступил День авиации. Позже в газетных сообщениях и в рассказах свидетелей было много неточностей, связанных с демонстрацией Ка-8.
Вспоминает В.Б. Баршевский:
Дело обстояло так. Заранее запустив двигатель от заднего колеса своего «Москвича», Гуров раскрутил винты и, перелетев на платформу грузовика ЗИС-150, стоявшего напротив правительственной трибуны, стал ожидать команды на взлет. Из-за того, что платформа была слегка наклонена, или же из-за разности давления в баллонах, вертолет, потряхиваясь, стал медленно приближаться к краю платформы. До взлета по программе оставалось около минуты. В воздухе в это время Александр Пьецух демонстрировал фигуры высшего пилотажа на своем планере, а Ка-8 уже соскальзывал с грузовика. Стоявшему рядом Конрадову ничего не оставалось делать, как дать команду на взлет. Через несколько секунд диктор объявил о начале демонстрации «воздушного мотоцикла» — вертолета Николая Ильича Камова. Так это слово, впервые примененное к автожиру КАСКР-1 в 1928 году, теперь заменило иностранный термин «геликоптер».
Гуров набрал высоту, выполнил круг над аэродромом и завис на уровне правительственной трибуны. Как только летчик начал убирать «газ», двигатель «чихнул», угрожая заглохнуть. Потом Михаил Дмитриевич рассказывал, что он уже собирался отлететь куда-нибудь подальше, чтобы не разбиваться на глазах у руководителей страны. Но пока он раздумывал, вертолет стал потихоньку опускаться. «Зависнув, как пчела над цветком», — писали на следующий день газеты, а летчику было не до цветов. Он медленно опустился на землю. У Гурова были небольшие неприятности за досрочный взлет, но победителей не судят, и он получил за свои полеты орден Красной Звезды.
Ка-8 стал первенцем молодого КБ, родоначальником всего семейства соосных вертолетов Н.И. Камова.
Он вызвал пристальный интерес военных моряков. Они по достоинству оценили исключительно малые габариты аппарата, его высокую маневренность и хорошие взлетно-посадочные характеристики. Появилось предложение использовать подобный винтокрылый аппарат на кораблях для обеспечения связи и выполнения разведывательно-дозорных функций. Замысел выглядел привлекательным, в первую очередь потому, что не требовал доработки кораблей небольшого водоизмещения в целях обеспечения базирования вертолета.
После упомянутого воздушного парада у Главнокомандующего Военно-Морским Флотом СССР Н.Г. Кузнецова возникла идея создать конструкторское бюро под руководством Н.И. Камова для проектирования и постройки связного вертолета корабельного базирования.
Н.И. Камов был приглашен в Министерство авиационной промышленности. Заместитель министра предложил ему возглавить небольшое конструкторское бюро для постройки вертолета, подобного Ка-8. При этом он передал поздравление Сталина в связи с успешным показом Ка-8 и сообщил об интересе, проявленном к вертолету Адмиралом Флота Н.Г. Кузнецовым.
7 октября 1948 года последовал приказ ? 772 министра авиационной промышленности М.В. Хруничева, который предписывал организовать при Государственном союзном опытном заводе-3, расположенном в Сокольниках, опытно-конструкторское бюро ??2 под руководством главного конструктора Н.И. Камова. Согласно данному приказу все специалисты группы, создававшей Ка-8 на общественных началах, переводились на работу в ОКБ-2 Н.И. Камова.
День 7 октября 1948 года считается датой рождения ОКБ, ставшего впоследствии всемирно известной вертолетостроительной фирмой. Однако ради исторической справедливости годом образования фирмы следовало бы считать предвоенный 1940-й.
29 ноября 1948 года вышло Постановление Совета министров о подготовке вертолета к серийному производству и о создании необходимого двигателя.
Завод ?3 МАП считался, по существу, базовым предприятием ОКБ главного конструктора И.П. Братухина. В его состав входили несколько производственных цехов и служб, включая летно-испытательную станцию на аэродроме в Измайлове. ОКБ-2 разместилось в выделенных для него служебных помещениях этого предприятия.
Службы ОКБ-2 разместились на втором этаже здания в нескольких комнатах. Для Н.И. Камова подготовили кабинет и наняли секретаршу — Елену Владимировну, бывшую балерину. Напротив поселился заместитель Николая Ильича — М.З.Ефимов. Расчетная бригада получила большую комнату и стала довольно быстро увеличиваться. Пришли молодые специалисты — А.Дрейзин, Д.Злато-польский, С.Взнуздаева, М.Смирнов. Несколько позже появились О.Полтав-цева и С.Финкель. Значительно пополнилась и конструкторская бригада А.Конарева. Были приняты А.Шумилин, М.Курышев, Б.Костин, В.Бирюлин, М.Купфер, А.Власенко, В.Львов и Е.Попков.
Специалисты молодого ОКБ приступили к разработке соосного вертолета для наблюдения и связи, получившего обозначение Ка-10. Его проектирование осуществлялось на основании тактико-технических требований, заданных авиацией ВМФ. Схема и компоновка нового винтокрылого аппарата были такие же, как у Ка-8. На вертолете установили специально спроектированный главным конструктором А.Г. Ивченко двигатель
М-4Г мощностью 55 л.с. Значительным изменениям подверглась система управления вертолетом.
Вертолеты Ка-10 строились, в отличие от Ка-8, уже в нормальных условиях авиационного предприятия. Для оценки работоспособности и надежности агрегатов, узлов и систем параллельно с изготовлением машины осуществлялся значительный объем лабораторно-стендовых испытаний. В короткие сроки было построено 4 экземпляра вертолета. Один из них подвергся 100-часовым ресурсным испытаниям, остальные использовались для выполнения программы летных испытаний.
Время было горячее. В четырех ОКБ — у А.С. Яковлева, М.Л. Миля, И.П. Братухина и Н.И. Камова — проектировались и испытывались первые советские вертолеты Як-100, Ми-1, Б-11 и Ка-10. Огромное количество вертолетов строилось в Америке. Был самый разгар послевоенного вертолетного бума.
30 августа 1949 года М.Д. Гуров выполнил на Ка-10 ? 2 первый полет над аэродромом в Измайлово. Масса машины по сравнению с Ка-8 выросла до 370 кг, за счет чего удалось на 34 кг повысить полезную нагрузку. На вертолете теперь были установлены: радиостанция, дополнительные приборы, ракетница, баллон сжатого воздуха для запуска двигателя, кронштейны для «Кинамо» и буйков. При необходимости покинуть машину спинка кресла летчика откидывалась, ремни отстегивались, и летчик с парашютом вываливался назад. Таким образом предусматривалось спасение пилота.
Испытания вертолета продолжались. Один за другим выполнялись пункты програм-мы. Михаилу Дмитриевичу Гурову приходилось очень трудно, потому что его привлекали к испытаниям и других вертолетов. Практически одновременно испытывались Ми-1, Як-100, Б-11 и Ка-10.
8 октября М.Д. Гуров выполнял на Ка-10 ? 2 один из последних пунктов програм-мы летных испытаний — полет на продолжительность. Летал он на высоте 200 метров над аэродромом в Измайлово. По-видимому, для снижения расхода топлива полет производился на пониженных оборотах. А даже при номинальных оборотах винтов окружная скорость концов лопастей составляла 118,5 м/с. При уменьшении оборотов на 5% на отступающих лопастях происходил срыв потока. Вероятно, именно в срыв потока с лопастей и попал пилотируемый Михаилом Дмитриевичем в этом полете аппарат. Вертолет скабрировал, но летчик перевел его в планирование. Потом машина скабрировала еще раз, лопасти сложились — и она упала. М.Д.Гуров умер по дороге в больницу. Погиб один из основателей ОКБ Камова, близкий друг Николая Ильича, отважный человек.
Первый летчик-испытатель*
Михаил Дмитриевич Гуров родился 22 декабря 1909 года в деревне Псарево Михневского района Московской области, в семье крестьянина. В 1930 году он окончил Военную школу летчиков в Борисоглебске.
Обживать небо летчик Гуров начал на истребителях в Смоленске. В 1934 году его перевели в Ржев командиром авиационного отряда, где он освоил тяжелый бомбардировщик ТБ-1 и два «разведчика» — Р-5, Р-6. С полетами укреплялись навыки, росло мастерство пилотирования летательных аппаратов различных видов. В 1937 году ему предложили испытывать военную технику в НИИ ВВС РККА (первый советский авиационный испытательный институт, ныне Государственный летно-испытательный центр). Сначала это были аэростаты заграждения, которые разрушали налетевший на них самолет. Здесь Гуров проявил себя не только как испытатель, но и как изобретатель. Он разработал параван — устройство для перерубания тросов аэростатов. Сам же и испытывал это устройство.
В НИИ ВВС Михаилу Дмитриевичу пришлось иметь дело с разнообразной техникой. Это и скоростной бомбардировщик СБ, и тяжелые бомбардировщики ТБ-2, ТБ-3, дальний бомбардировщик ДБ-3. Довелось ему летать и на импортной технике — германских самолетах «Фокке-Вульф», «Физперштарх» и английских «Майлс Хоук» и «Бюккер». Выполнял он и рейсовые полеты на пассажирском самолете ПС-84, вел обучение курсантов на самолетах УТ-2, По-2 и других. В конце 1930-х годов Гуров участвовал в государственных испытаниях автожиров Н.И. Камова А-7 и А-7бис. Возможно, эти испытания предопределили дальнейший его приход в ОКБ Камова. На автожирах типа А-7 Камов хотел добиться аэродинамического качества аппарата, равного 5–7. Для этого он сделал крыло, которое могло на больших скоростях полета взять на себя значительную часть нагрузки. Летные испытания и исследования автожиров имели особое значение — в процессе их проведения уточнялась методика определения летных характеристик. Впервые были достигнуты рекордные значения максимальной скорости полета на винтокрылых летательных аппаратах, массы максимально поднятого груза, максимальной высоты и дальности. К сожалению, как пишет Н.И.Камов, «...все эти фактические рекорды не были оформлены должным образом — в те времена нам не было дано соответствующего разрешения».
В первые же дни Великой Отечественной войны Михаил Дмитриевич Гуров оказался в действующей армии, участвовал в боях в качестве командира штурмового звена. Трижды награждался орденом Красной Звезды, а также медалями. По окончании войны вернулся к испытаниям авиационной техники, выполнял инспекторские полеты. До прихода к Камову летал на самолетах 37 типов.
В 1947 году Гуров сначала летал «на общественных началах», а в 1948 году был зачислен в штат.
Появление в группе Камова Гурова – опытного военного летчика в чине подполковника было как нельзя кстати. Одной из проблем, с которой Гурову сразу пришлось столкнуться, была сильная тряска вертолета, возникающая при раскручивании несущих винтов. Николай Ильич добивался уменьшения вибраций переделкой и доработкой конструкции. Михаил Дмитриевич не оставался в стороне, он вникал в работу отдельных систем, механизмов, доводил машину вместе с конструкторами, как и все, переживал неудачи. Вибрации удалось укротить.
12 октября 1947 года Гуров совершил нормальный подъем вертолета Ка-8 в воздух, а через месяц выполнил на нем первый свободный полет по кругу.
Гуров не только испытывал машину, он проверял в воздухе идеи конструкторов. Испы-тания продолжались. Перед летчиком стави-лись вс? более сложные задачи, вплоть до посадки на движущуюся платформу. Шло на-копление опыта полетов на соосном вертолете. В результате посадка на платформу была отработана.
Летом 1948 года Гурову поручили летать по программе подготовки к воздушному параду в День Воздушного Флота. На параде Гуров выполнил взлет с платформы грузовика и полет по кругу. За мастерство испытатель был награжден очередным орденом Красной Звезды. Вертолетом заинтересовался Адмирал Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецов, и Н.И.Камова в результате назначили главным конструктором вновь созданного опытно-конструкторского бюро, которым он потом и руководил до конца своей жизни.
Следующей машиной, которую испытывал у Камова Михаил Дмитриевич, стал вертолет Ка-10. На новом вертолете был установлен специально спроектированный авиационный четырехцилиндровый двигатель. Вертолет, заказанный Военно-Морским Флотом, должен был взлетать и садиться на качающиеся палубы ограниченных размеров.
30 августа 1949 года, аэродром в Измайлово, вертолет Ка-10 на взлетной площадке. Гуров плавно набирает высоту, красиво проходит круг над аэродромом и совершает первую посадку нового вертолета.
Один за другим успешно выполнялись пункты программы летных испытаний. Часы, наработанные на привязи на земле, и испытательные полеты доказывали, что вертолет Ка-10 удовлетворяет требованиям заказчика, маневрен, компактен, может базироваться на кораблях. Михаил Дмитриевич начал разработку Инструкций по летной эксплуатации соосных вертолетов.
Испытания вертолета Ка-10 фактически подходили к концу. Позади остались десятки полетов на определение летных характеристик, расхода топлива на различных режимах, на определение работоспособности приборов и систем. 8 октября 1949 года Гуров выполнял на вертолете Ка-10 один из последних пунктов испытательной программы — полет на продолжительность. Машина упала, по одной из предполагаемых версий, из-за попадания лопастей в срывной режим. Михаил Дмитриевич умер по дороге в больницу.
После катастрофы М.Л. Миль заявил, что «соосные вертолеты вообще не могут авторотировать», и это произвело очень большое впечатление, особенно на руководство Минавиапрома.
Предположение Миля о том, что соосный вертолет не способен авторотировать, могла опровергнуть только практика. Но для этого нужны были и вертолет, и летчик. В конце 1949 года закончились 200-часовые ресурсные испытания Ка-10 ? 1, в которых участвовал и механик Дмитрий Константинович Ефремов. Летать на вертолете он выучился самостоятельно. Сначала ему приходилось часами держать ресурсную машину на висении, а потом он стал применять так называемый тренажер — «трелле». Дмитрий усиленно тренировался и надеялся со временем стать летчиком-испытателем вертолетов. Николай Ильич в своих воспоминаниях уверенно утверждает, что летать на
Ка-10 Ефремова выучил Гуров, который и является изобретателем тренажера. Фактически так оно и было.
Пока на Ка-10 ? 4 с 11 мая 1950 года начал летать молодой летчик Ефим Кедровский. Он довольно быстро освоил вертолет, и программа испытаний стала выполняться.
Во время одного из полетов Кедровский намеренно ввел в режим авторотации соосный вертолет, который, по заявлению М.Л. Миля, не мог авторотировать! Между тем время шло. Уже строились серийные Ми-1 и заканчивались госиспытания Як-100.
А заводские испытания Ка-10 под руководством ведущего инженера А.М.Конрадова тянулись уже более – месяцев. Чтобы ускорить дело, начали испытания еще одного Ка-10 ? 3, поручив их летчику Ефремову и ведущему инженеру В.И. Бирюлину. За 27 дней октября 1950 года они завершили заводскую программу испытаний вертолета. Государственные испытания Ка-10 проводились под Ригой на Киш-озере и на крейсере «Максим Горький». Пилотировали вертолет военный летчик Е.А.Гридюшко и Д.К. Ефремов, ведущими инженерами были В.А. Захарьин и А.М.Конрадов.
Это были первые в нашей стране полеты вертолета с корабля. Датой образования корабельной (палубной) авиации можно считать 1950 год. Государственные испытания подтвердили высокие маневренные качества вертолета соосной схемы и его пригодность для использования на кораблях.
В августе 1951 года было принято решение о постройке войсковой серии из 15 вертолетов для более углубленного исследования возможностей применения винтокрылых машин в различных тактических целях ВМФ. Войсковые испытания Ка-10 проводила на Черном море специально созданная в ВМФ вертолетная эскадрилья, которой командовал капитан А.Н. Воронин.
Серия из десяти машин была построена в 1952–1953 годах. На этих вертолетах проводились разносторонние испытания по выполнению боевых задач в интересах ВМФ. Вертолеты летали с кораблей различных классов, от бронекатера до линкора, осуществляя наблюдение и связь, визуальный поиск мин и подлодок, корректировку артиллерийского огня и буксировку спасательных лодок с людьми. Полеты с крейсера «Максим Горький» выполнялись при ветре до 26 узлов. Впервые были созданы и отработаны методики летно-морских испытаний вертолетов и заложены основы их корабельной эксплуатации.
Учитывая накопленный опыт наземной и летной эксплуатации, специалисты ОКБ внесли в конструкцию Ка-10 ряд изменений, направленных на его дальнейшее совершенствование. «...Была окончательно отработана конструкция настоящего вертолета-малютки, получившего обозначение Ка-10М», — отмечал Н.И. Камов. Вертолет несколько лет использовался в исследовательских целях и для выполнения демонстрационных полетов. Становление ОКБ завершилось с постройкой и доводкой Ка-10 и Ка-10М, положивших начало вертолетам соосной схемы в стране. Большой вклад в создание вертолетов Ка-10 и Ка-10М внесли сотрудники ОКБ В.Б. Баршевский, М.А. Купфер и А.И. Власенко.
Эксплуатация Ка-10 на кораблях флота показала, что необходимо приступать к постройке более грузоподъемной и менее зависимой от погодных условий винтокрылой машины. Она должна иметь закрытую кабину с необходимым оборудованием, обеспечивающую нормальные условия для размещения пилота и выполнения им своих функциональных обязанностей. Такой машиной и стал Ка-15, спроектированный также по соосной схеме. Это был двухместный вертолет — рядом с пилотом располагалось кресло для оператора или пассажира.
В августе 1950 года началось проектирование двухместного корабельного вертолета Ка-15, а в сентябре в МАП, ВВС и ВМФ был направлен проспект.
Разработка эскизного проекта началась весной 1951 года. 9 июня 1951 года вышло распоряжение заместителя Председателя Совета Министров СССР Н.П.Булганина за ? 6043 об авансировании работ по Ка-15.
С 25 июня 1950 года в Корее шла война, в которой впервые начали широко использоваться вертолеты Сикорского и Пясецкого. В первый же год, а точнее уже через месяц после начала применения, вертолеты показали высокую эффективность и стали буквально незаменимы. 12 сентября 1950 года американский бригадный генерал К.К. Джером закончил памятную записку такими словами: «...вертолеты, больше вертолетов, как можно больше вертолетов в Корею». Выпуск транспортных вертолетов в США стал быстро увеличиваться. Для камовцев получить задание на транспортный вертолет означало возможность укрепить и расширить ОКБ, а может быть, и вернуться в Ухтомскую. Началась проработка различных вариантов вертолетов продольной схемы. Вот несколько проектов: маленький Ка-11, одномоторный Ка-12 и, наконец, Ка-14-2 с двумя двигателями А.Д.Швецова, установленными вертикально.
4 августа 1951 года командованию ВМФ направляется проект тактико-технических требований на Ка-15, а 3 октября предъявляется эскизный проект. Началась постройка макета, который был одобрен в конце 1951 года, когда коллектив стал называться ОКБ-4 и располагался уже на другой территории в Тушино.
В конце сентября в правительстве начались обсуждения вопроса о преодолении отставания отечественного тяжелого вертолетостроения. Необходимость в тяжелых транспортных вертолетах для армии отчетливо выявилась в продолжавшейся войне в Корее.
В начале октября 1951 года Николай Ильич был вызван в Кремль. Как рассказывал очевидец В.Б. Баршевский, часа через три Камов вернулся очень расстроенный и молча сел в машину. На совещание кроме Н.И. Камова были приглашены конструкторы А.Н.Туполев, С.В. Ильюшин, И.П. Братухин и М.Л. Миль. Была поставлена задача срочного создания транспортных вертолетов. М.Л. Миль доложил проект двенадцатиместного Ми-4, а Камов — проект Ка-14-2. Срок создания вертолетов устанавливался в один год. Николай Ильич сказал, что ему необходимо минимум два года, на что Л.П. Берия посоветовал ему «обратиться в собес». На другой день в Кремль вызвали только М.Л. Миля и А.С. Яковлева и уговорили их взяться за задание, обещая неограниченную помощь. Камовский проект по существу передавался Яковлеву.
Коллектив Камова снова должен был переезжать на неблагоустроенную базу вместе с небольшим коллективом СБиЖ, который очень активно продвигал вертолет с двумя пульсирующими реактивными двигателями. Предстояло строить по приказу МАП ? 1040 от 23.10.51 войсковую серию Ка-10 и разрабатывать Ка-15.
При переезде камовцы кое-кого потеряли, но к ним пришли Б.Ф. Савин, Л.Н.Триденцов, З.Б. Цыпина, А.А. Андреев, В.П. Борисов, А.М. Зейгман, М.Г.Черемухин. Летно-испытательная станция размещалась на Захарковском аэродроме, за которым находилось Химкинское водохранилище. Устроились довольно уютно и быстро почувствовали себя хозяевами этого небольшого заводика.
Вертолет Ка-15 предназначался для кораблей, поэтому проектировали его очень компактным. Длина у Ка-15 была почти в два раза меньше, чем у Ми-1. Непросто было разместить в небольшом объеме все оборудование, необходимое для поиска подводных лодок.
14 апреля 1953 года Д.К.Ефремов на первом экземпляре Ка-15, предназначенном для ресурсных испытаний, совершил первый полет. А 9 июня министр авиационной промышленности М.В.Хруничев прекратил финансирование работ по этой машине. С большим трудом Н.И.Камову удалось добиться распоряжения Н.А.Булганина о выделении на зарплату сотрудникам в месяц по 150 тысяч рублей. Работы по Ка-15 замедлились. Началась длительная доводка вертолета.
Полученные при испытаниях летно-технические характеристики Ка-15 оказались выше проектных. Машина перевозила коммерческую нагрузку в 210 кг при взлетной массе 1410 кг и мощности двигателя 280 л.с. В то время как Ми-1 брал 255 кг при массе 2470 кг и мощности двигателя 575 л.с. Характеристики управляемости, свойственные соосному вертолету, и компактность машины позволяли выполнять взлеты и посадки с весьма ограниченных площадок.
Государственные испытания были закончены в 1955 году, а в 1956 году на авиационном заводе в Улан-Удэ начали серийное производство этих машин. На базе Ка-15 создавался ряд его модификаций: многоцелевой Ка-15М, учебно-тренировочный УКа-15 и четырехместный Ка-18. Их опытные экземпляры начинали строить на территории завода ?82 в Тушино, а заканчивали уже на собственном производстве вблизи станции Ухтомской.
Сравнительные войсковые испытания вертолетов Ка-15 (соосной схемы) и Ми-1 (одновинтовой схемы с рулевым винтом) проводились на крейсере «Михаил Кутузов» по решению руководства ВМФ. Благодаря малым размерам и высокой маневренности Ка-15 успешно производил взлеты с небольшой площадки корабля и посадки на нее даже в условиях шестибалльного волнения моря. Ми-1, имеющий длинную хвостовую балку и рулевой винт, значительно ограничивающие возможности эксплуатации, не мог использоваться при наличии турбулентности потока воздуха и качки корабля. Результаты испытаний окончательно убедили военных моряков в правильности выбора соосной схемы для вертолета корабельного базирования, а значит, были в пользу Ка-15.
В 1957—1958 годах были сформированы первые подразделения вертолетов
Ка-15. В 1958 году начались работы по оборудованию эскадренного миноносца «Светлый» (проект 57) вертолетной взлетно-посадочной площадкой (ВППл). В 1960—1961 годах на вооружение ВМФ поступило 8 кораблей (проект 57), оборудованных ВППл, каютами для пилотов и обслуживающего персонала.
После запуска Ка-15 в серию ОКБ продолжало работы над повышением ресурса и расширением областей применения машины. На заводе были созданы многочисленные стенды для испытаний в условиях динамических нагрузок узлов и элементов конструкции. Завершились длительные ресурсные испытания и комплекс специальных летных испытаний, в том числе посадки на авторотации с выключением двигателя. Выполнялись посадки на поплавковом шасси на воду, также и на авторотации. Д. Ефремов и Т. Руссиян в 1957 году провели очень сложные и небезопасные исследования «вихревого кольца», определив его границы, исключающие попадание в этот режим, и методы выхода из него. В то же время разработали различные варианты народнохозяйственного многоцелевого вертолета Ка-15М. Он был оборудован аппаратурой для химической обработки растений, контейнерами для почты и мелких грузов, гондолами для перевозки больных и поплавковым шасси.
Вертолеты Ка-15 и его модификации находились в эксплуатации около 20 лет. Летчик-испытатель В.В. Виницкий в 1958—1959 годах установил на Ка-15М два мировых рекорда скорости полета. С вертолета Ка-15 началась практическая эксплуатация вертолетов соосной схемы в ВМФ и ГВФ. По всеобщему признанию, наибольший вклад в создание Ка-15 внесли В.Б. Баршевский, М.А. Купфер, Н.Н. Приоров, А.И. Власенко и Д.К. Ефремов.
На базе Ка-15 создали четырехместную модификацию — вертолет Ка-18. Скомпоновал эту машину М.Б. Малиновский в 1956 году. Этот вертолет в 1957 году успешно выдержал госиспытания и несколько лет выпускался серийно на заводе в Улан-Удэ. В 1958 году на Всемирной выставке в Брюсселе он отмечен золотой медалью.
Вертолеты Ка-15 и Ка-18 находились в эксплуатации много лет и позволили накопить большой опыт практического применения машин соосной схемы.
Винтокрыл Ка-22*
Развитие отечественного и зарубежного вертолетостроения открывало перспективы применения винтокрылых аппаратов в качестве транспортного средства для перевозки грузов большой массы на огромной территории Советского Союза в при отсутствии развитой аэродромной сети. В середине 1950-х годов ОКБ принимает революционное решение строить по тактико-техническим требованиям, заданным Министерством обороны, экспериментальный винтокрыл Ка-22 поперечной схемы с двумя несущими винтами на концах консолей крыла и двумя тянущими винтами. Это был новый для отечественной авиации тип летательного аппарата, сочетающего в себе достоинства вертолета, способного выполнять вертикальные взлет и посадку, и самолета, имеющего большие по сравнению с вертолетом грузоподъемность, дальность и скорость полета.
История винтокрыла началась осенью 1951 года, когда камовцы переехали в Тушино и получили название ОКБ-4. Предстояло строить войсковую серию Ка-10 и разрабатывать Ка-15. Настроение в ОКБ было неважное. Его отстранили от создания тяжелых транспортных вертолетов. Тем временем в ОКБ уже успели почувствовать вкус проектирования большого вертолета Ка-14-2, буквально упущенного из рук.
Необходимо было найти тему, которая привлекла бы внимание руководства страны.
В конце 1952 года почти одновременно начались разработки вертолета Ми-6 и винтокрыла Ка-22. Оба летательных аппарата проектировались под турбовинтовые двигатели на базе ТВ-2Ф мощностью 5900 л.с.
Таким образом, неизбежным становилось острое соперничество двух конструкторских коллективов, двух конструктивных схем. Положение ОКБ Камова в 1953 году оставалось очень сложным. Здесь не было ни оборудованного завода, ни серийных вертолетов. А в ОКБ Миля уже было два серийных вертолета – Ми-1 и Ми-4, последний из которых был создан всего за год и являлся выдающимся достижением советской авиации. В апреле 1953 года совершил первый полет вертолет Ка-15, но в июне Минавиапром прекратил финансирование этой машины. Нужно было обладать незаурядной храбростью, чтобы решиться на соревнование в таких условиях. Николай Ильич решился. В штате было тогда около 100 человек, из них в КБ человек 30–40.
Масса винтокрыла Ка-22 была в 20 раз, а мощность силовой установки
в 50 раз больше, чем у Ка-15, скорость предполагалось увеличить почти вдвое по сравнению с существующими вертолетами.
Когда в 1962 году Николай Ильич защищал докторскую диссертацию по совокупности выполненных работ, Михаил Леонтьевич Миль сказал, что он достоин этой степени «за один винтокрыл». Но все это было позже, через 10 лет, а пока в Тушино винтокрылом занимались: в КБ — А.И.Власенко, М.А.Купфер, М.Б.Малиновский, В.В.Никитин, О.И.Полтавцева, С.Я.Финкель; в производстве — В.П.Борисов, А.М.Зейгман, Б.Ф.Савин, ученые ЦАГИ: И.В.Ананьев, Л.С.Вильдгрубе, Н.Н.Корчемкин, М.К.Сперанский, Я.М.Серебрийский, А.Ж.Рекстин, Т.А.Француз, И.О.Факторович и другие.
За пять месяцев, с января по май, 1953 года была спроектирована, построена и отправлена в ЦАГИ механизированная модель винтокрыла в масштабе 1:7,25 с двумя электродвигателями по 100 кВт.
В 1953 году предъявлен предэскизный проект винтокрыла Ка-22 в двух томах. Он рассматривался в ВВС, ЦАГИ и других учреждениях, получил одобрение и послужил исходным материалом для подготовки решения правительства о создании винтокрыла. Постановление вышло 11 июня 1954 года. Оно предусматривало постройку трех винтокрылов и перевод ОКБ-4 на завод ? 938 в Ухтомскую, что произошло в феврале 1955 года. Так исполнилась давняя мечта Николая Ильича — вернуться на Ухтомскую и получить большое задание! 25 июня от ВВС поступил проект тактико-технических требований, который после просмотра был подписан Камовым.
Авиационный завод надо было создавать практически с нуля. Предстояла огромная работа. Николай Ильич начал с людей. Директором завода назначили И.С.Левина, который во время войны руководил авиационным заводом в Саратове, выпускавшим по 30 истребителей в день. Главным инженером стал опытный И.И.Штейнберг, тоже бывший директор завода. Приступили к набору инженеров, техников, рабочих. Одновременно развертывалось проектирование винтокрыла, доводка и внедрение в серийное производство вертолета Ка-15.
Создание и доводка Ка-22 потребовали выполнения большого объема теоретических и экспериментальных исследований. Под руководством С.Я. Финкеля был разработан пакет методик выбора параметров и основных летных характеристик аппарата, аэродинамического расчета, компоновки лопастей несущего винта машины, расчета внешних нагрузок, балансировки и др. Проводились специальные исследования для обеспечения оптимальных характеристик переходных режимов полета винтокрыла, подбора жесткостных характеристик элементов конструкции, предотвращения флаттера лопастей несущих винтов и явления «земного резонанса». Большое внимание было уделено решению проблем, связанных с устойчивостью и управляемостью комбинированного летательного аппарата. Результаты теоретических методов расчета удалось подтвердить на многочисленных моделях, стендах и специальных установках, а также в процессе летных испытаний. Большой вклад в создание этой машины внесли С.Б. Герштейн, А.И. Дрейзин, З.З. Розенбаум, А.Г. Сатаров, Э.А. Петросян, Л.А. Поташник, В.Н. Квоков и другие специалисты ОКБ, а также сотрудники ЦАГИ М.К. Сперанский, И.О. Факторович, Э.В. Токарев.
Работами по созданию уникальной силовой установки и оборудования машины руководил заместитель главного конструктора Н.Н. Приоров, несущей системы и планера — заместитель главного конструктора М.А. Купфер. Ведущим конструктором по Ка-22 был назначен
Ю.С. Брагинский, а ведущим инженером по испытаниям — В.Б. Альперович.
За все работы по винтокрылу отвечал первый заместитель главного конструктора В.И. Бирюлин. Большую помощь в доводке машины по характеристикам устойчивости и управляемости, особенно на малых переходных скоростях полета, камовцам оказали сотрудники ЛИИ.
В 1955 году был разработан эскизный проект Ка-22 под заданные тактико-технические требования. Весь год не прекращалось согласование технических условий на агрегаты винтокрыла, разрабатывающиеся в кооперации главными конструкторами А.Г.Ивченко, К.Н.Ждановым, Г.И.Ворониным, И.И.Картуковым, А.С.Абрамовым, Ф.А.Коротковым, В.В.Медведевым, И.А.Михалевым и др.
Создание винтокрыла задерживалось, и 28 марта 1956 года вышло постановление правительства о переводе Ка-22 в разряд экспериментальных и об уменьшении количества опытных экземпляров с трех до одного.
Тем временем на Ми-6 уже в июне 1957 года был выполнен первый полет. Камовцы явно отставали. Осенью 1958 года винтокрыл доставили с завода на летно-испытательную станцию (ЛИС).
15 августа 1959 года винтокрыл впервые летал без привязи. Ефремов три раза поднимал его на 2–3 метра. Самое длительное висение продолжалось 1 минуту. Вот такими маленькими шажками машина училась летать.
К полетам на винтокрыле подключили ассов из ЛИИ В.В.Виницкого и Ю.А.Гарнаева.
11 ноября 1959 года в 13 часов состоялся показательный полет для министра П.В.Дементьева и Главкома ВВС К.А.Вершинина.
Первый полет по кругу по плану выполнил экипаж в составе летчиков Д.К.Ефремова, В.М.Евдокимова, бортмеханика Е.И.Филатова, ведущего инженера В.Б.Альперовича и экспериментатора Ю.И.Емельянова. На аэродроме были все, кто только смог туда попасть. Винтокрыл легко взлетел в направлении Косино, набрал высоту приблизительно 200 метров, на некоторое время скрылся за деревьями, сделал левый разворот и, снизившись, сел недалеко от места взлета с поврежденной лопастью правого несущего винта.
1 июля 1960 года был выполнен второй полет по кругу на высоте 470 м до скорости 122 км/ч. Так постепенно Ка-22 начинал летать как винтокрыл.
13 августа 1960 года Николай Ильич Камов демонстрировал винтокрыл Л.И.Брежневу, А.А. Гречко и Д.Ф.Устинову, и весьма успешно. В марте 1961 года начались летные испытания. Еще в начале года правительством было принято решение о постройке 3 предсерийных образцов винтокрыла Ка-22 с двигателями П.А. Соловьева Д-25 ВК на Ташкентском авиационном заводе имени Чкалова. 20 сентября 1961 года летчик-испытатель ЛИИ Ю.А. Гарнаев совершил первый полет на серийном винтокрыле. Однако после принятия решения о демонстрации винтокрыла на параде авиации в Тушино выполнение программы затормозилось. 23 мая Ефремов и Гарнаев выполнили полет длительностью 37 минут, достигнув при этом скорости 250 км/ч. После этого машину покрасили, тщательно осмотрели, и 21 июня она перелетела в Захарково. С этого аэродрома были сделаны 4 тренировочных полета, а 9 июля винтокрыл летал на параде над Тушино.
В параде принимали участие 4 летательных аппарата ОКБ Камова: винтокрыл Ка-22, новый двухмоторный противолодочный вертолет соосной схемы Ка-25 и легкие соосные вертолеты Ка-15 и Ка-18.
Винтокрыл произвел впечатление. О нем много писали, подчеркивая скорость и размеры необычного летательного аппарата. Сразу после парада утвердили большую программу работ по увеличению скорости и высоты полета винтокрыла.
7 октября 1961 года была сделана попытка установить рекорд на базе 15–25 км. Экипаж винтокрыла: пилоты Ефремов и Громов, бортмеханик Филатов, ведущий инженер Альперович, штурман Савельев. Официально был зарегистрирован мировой рекорд скорости винтокрыла на базе 15–25 км – 356,3 км/ч. 24 ноября 1961 года в присутствии спортивных комиссаров был выполнен рекордный полет винтокрыла на грузоподъемность. Установлено сразу семь мировых рекордов.
Чтобы представить масштабность решенной ОКБ задачи, достаточно сравнить максимальную взлетную массу Ка-22 (42 500 кг) и самого большого к тому времени вертолета Ка-25 (7000 кг).
В соответствии с планом, утвержденным комиссией по совместным испытаниям, в августе–сентябре намечался перегон двух машин из Ташкента в Москву.
Старт перелета был назначен на 28 августа 1962 года. В состав экипажа винтокрыла ? 01-01 вошли летчики Ефремов и Яркий, штурман Школяренко, бортрадист Поляничко, ведущий инженер Николаев, бортмеханик Куслицкий, экспериментатор Емельянов. Командиром винтокрыла ? 01-01 был назначен Ефремов, командиром винтокрыла ? 01-03 — Гарнаев. Около 4 часов утра первым в сопровождении самолета Ли-2 совершил взлет винтокрыл Ефремова. Однако вскоре ему пришлось вернуться из-за течи масла из-под неплотно закрытой пробки маслобака редуктора. Повторный взлет Ефремов произвел в 5 утра, и через час он был в Туркестане, где уже совершил посадку винтокрыл Гарнаева.
Из Туркестана винтокрыл Ефремова вылетел в 10 часов утра. Через час с небольшим винтокрыл был над аэродромом города Джусалы и запросил у диспетчера разрешение на посадку «по-самолетному». Диспетчер разрешил садиться винтокрылу на основную полосу. Чуть позже посадка на запасную полосу была разрешена рейсовому самолету Ил-14.
Катастрофа винтокрыла произошла на глазах у летчика самолета сопровождения Петросова. Из семи членов экипажа винтокрыла не спасся никто. На штурвале разрушенной машины осталась кисть руки Ефремова, разжать которую не смогла даже смерть. Он боролся до последнего мгновенья... Катастрофа произошла 27 августа 1962 года, погиб весь экипаж: летчики-испытатели Д.К.Ефремов и О.К.Яркин, штурман В.С.Школяренко, бортмеханик И.Л.Куслицкий, бортрадист Б.Г.Поляничко, ведущий инженер В.А.Николаев, экспериментатор Ю.И.Емельянов.
После гибели М.Д. Гурова при испытаниях вертолета Ка-10 коллектив Камова не получал такого ужасного удара. Катастрофа пошатнула уверенность в успехе, которой коллектив жил последние годы, нанесла ущерб самой идее винтокрыла.
Аварийная комиссия ГКАТ, ГНИКИ ВВС, комиссия УВЗ в конце сентября дали свои замечания, рекомендации и перечень дефектов и недостатков винтокрыла, которые предстояло в короткие сроки устранить, после чего следовало продолжать испытания.
В конце октября утвердили порядок работ на винтокрыле АМ 01-03. Предполагалось все доработки и устранение дефектов сделать в Ташкенте силами завода п.я. 116. Был составлен сводный перечень предложений по доработке винтокрыла. А в Ухтомской по каждому из них главный конструктор принял решение. Доработки, устранение дефектов и переделки винтокрыла продолжались до июля 1964 года.
16 июля 1964 года – вновь трагедия. Погибли двое — Рогов и Бровцев, троим — Гарнаеву, Дордану и Бахрову удалось спастись. Причину катастрофы установить не удалось.
Судьба винтокрыла Ка-22 была решена.
Руководство ВВС после этого не смогло преодолеть возникшее недоверие к летательному аппарату и не предоставило ОКБ возможность довести машину. Тем не менее проектирование, строительство и испытания такого сложного и большеразмерного винтокрылого аппарата позволили специалистам фирмы подняться на новый, более высокий научно-технический уровень.
Тем временем вертолет Ми-6, в конце 1959 года запущенный в серийное производство, в 1963 году был принят на вооружение, а в 1964 году начал продаваться за рубеж. Соревнование закончилось победой милевского вертолета. Однако камовцы не могли еще смириться с поражением, искали новые пути повышения скорости и производительности винтокрыла. Стало ясно, что, желая получить серьезное улучшение характеристик (например, скорости), нельзя обойтись без адекватного улучшения характеристик входящих в конструкцию элементов, и прежде всего двигателей.
Николай Ильич Камов в письме одному из своих помошников писал: Готовясь к такой работе, нужно исходить из того, что решать эту задачу можно будет только отрешившись от предвзятых мнений, рассматривая вопрос по-новому... Шел ноябрь 1964 года.
Дмитрию Федоровичу Устинову была представлена модель винтокрыла поперечной схемы Ка-35. Он одобрил проект развития идеи винтокрыла и настойчиво рекомендовал продолжать испытания двух оставшихся в Ташкенте машин. После этого 20 июля 1966 года вышел приказ министра о разработке эскизного проекта объекта «В» и проведении экспериментальных работ по его обоснованию. Руководство возложили на В.Б. Баршевского. Эксклюзивный проект представлялся институтам МАП и заказчику, но задания на постройку новой машины Камову получить не удалось. Тема винтокрыла была отложена на будущее, потомкам.
Шеф-пилот*
Дмитрий Константинович Ефремов родился в Москве 30 октября 1920 года, в семье служащего мануфактурного магазина Константина Николаевича Ефремова. Мать – Раиса Ильинична Воронцова.
В 1928 году Дмитрий поступил в среднюю школу. В 1938 году он начинает работать слесарем на авиационном заводе. Война застает Дмитрия курсантом Бауманского аэроклуба, который направляет его в Саратовскую военную авиационную планерную школу. После окончания летных курсов с 1942 года Ефремов участвует в боях с немцами в качестве пилота-планериста, летает в тыл врага с боеприпасами для попавших в окружение, вывозит раненых. Заслуги боевого планериста отмечены медалью «За отвагу». В 1946 году он — летчик-инструктор Военно-авиационной школы ВДВ в Славгороде. В январе 1948 года, после демобилизации, Ефремов устраивается на работу старшим техником в ЦАГИ.
В ноябре 1948 года Ефремов приходит в только что созданное ОКБ Камова. В качестве авиационного механика он проводит ресурсные испытания вертолета Ка-8. Ни на минуту его не оставляет желание летать. Выполнить это желание помогает изготовленный по указаниям М.Д. Гурова тренажер, позволяющий вертолету подниматься на небольшую высоту и перемещаться вперед и назад в пределах, допускаемых тросовой привязью. На нем Ефремов приобретает навыки управления вертолетом.
В сентябре 1949 года Камов приказом по заводу назначает Ефремова летчиком-испытателем.
После катастрофы вертолета Ка-10, при которой погиб Гуров, летные испытания вертолета продолжил летчик Игнат Кедровский под руководством инженера А.М. Конрадова. Н.И. Камов подключает Д.К. Ефремова и ведущего инженера В.И. Бирюлина к летным испытаниям второго экземпляра вертолета Ка-10. За 27 дней октября 1950 года двум энергичным специалистам удалось завершить программу заводских испытаний, которая до этого выполнялась несколько месяцев. В ноябре 1950 года Ефремов участвует в проведении государственных испытаний Ка-10, которые проходят на Киш-озере под Ригой. Здесь он отрабатывает методику полета над водой, способы посадки на воду и движения по воде во всех направлениях: передом, задом, боком, развороты на месте. В воздухе Ефремов показывает морякам возможности маленькой, верткой, способной совершить посадку на любой пятачок машины; на земле анализирует полеты, уровень вибраций, проверяет исправность техники, улучшает балансировку лопастей.
В 1951 году на праздновании Дня Военно-Морского Флота Ефремов и Гридюшко продемонстрировали «парное катание»: эффектную картину синхронного полета двух вертолетов Ка-10 с посадкой и взлетом с движущихся кораблей.
В конце 1952 года Камов направляет Ефремова проводить испытания Ка-10 на кораблях Черноморского флота. В свободное от летной работы время Ефремов шел со своими мыслями к конструкторам, аэродинамикам. Предложения летчика находили полное понимание и поддержку у Камова и его ближайших помощников.
14 апреля 1953 года Ефремов совершил первый полет на вертолете Ка-15. Увеличение размерности машины породило ряд новых технических трудностей, особенно острой стала проблема вибраций.
Как установил Ефремов, для борьбы с тряской необходимо обеспечить идентич-ность установки шага лопастей. Для упроще-ния регулировки несущей системы Ефремов пред-ложил так изменить конструкцию колонки, чтобы карданная подвес-ка верхнего автомата перекоса получила воз-можность свободно перемещаться вдоль вала верхнего винта. Реализо-вать эту идею Ефремову помогли Н.И.Камов и ведущий конструктор несущей системы Александр Иванович Власенко. Трем авторам было выдано авторское свидетельство ? 128302 на изобретение «Подвеска автоматов перекоса несущих винтов вертолетов соосной схемы». По такой схеме выполнены все существующие колонки соосных вертолетов.
Ефремов выполнил большой объем испытаний на «земной резонанс», флаттер и сближение лопастей, по определению характеристик устойчивости и управляемости вертолета во всем диапазоне эксплуатационных режимов. Одним из первых летчиков Ефремов исследовал наиболее опасные режимы полета соосного вертолета: посадку на авторотации и спуск в режиме «вихревого кольца». Разработанные им рекомендации по действиям пилота в этих условиях легли в основу Руководств по летной эксплуатации вертолетов Ка-15, Ка-18. В том, что вертолет Ка-15 удалось довести до стадии серийного производства и успешной эксплуатации, летчику и инженеру Ефремову принадлежит выдающаяся роль.
Огромен творческий вклад Ефремова и в создание винтокрыла Ка-22. Он стал первым летчиком самого скоростного в мире винтокрылого аппарата.
9 июля 1961 года Ефремов демонстрировал винтокрыл Ка-22 на воздушном параде в Тушино. 7 октября 1961 года на замкнутом 100-километровом маршруте пилотируемый им винтокрыл развил рекордную скорость356,3 км/ч, причем на отдельных участках скорость полета доходила до 375 км/ч. 24 ноября этого же года Ефремов установил сразу
7 мировых рекордов грузоподъемности. Винтокрыл поднял 16,5т на высоту 2 км.
В 1988 году на торжественном заседании в Колонном зале Дома союзов, посвященном сорокалетию камовского коллектива, заместитель главного конструктора Марк Александрович Купфер сказал о Ефремове: «8 октября 1949 г. в испытательном полете на Ка-10 погиб Михаил Дмитриевич Гуров... Время было тяжелым... судьба Ка-10 и нашей фирмы висела на волоске. В том, что коллектив смог быстро справиться и завершить испытания Ка-10, огромная заслуга принадлежит замечательному летчику Дмитрию Константиновичу Ефремову, внесшему огромный вклад в развитие советского вертолетостроения».
Первый советский боевой корабельный вертолет Ка-25*
С 1955 года в течение пяти лет была проделана поистине титаническая работа по организации опытного авиационного производства. Оборудование опытного завода и КБ, а также квалификация специалистов позволяли выполнять сложнейшие работы с использованием самых передовых технологий. Наличие летно-испытательного комплекса, оснащенного современным оборудованием, натурными стендами и ресурсными гоночными площадками, обеспечивало качественное проведение испытаний и быструю доводку винтокрылых аппаратов. Большую помощь ОКБ тогда, как и в последующие годы, оказывали научно-исследовательские институты авиационной промышленности и Министерства обороны. В их числе: ЦАГИ, ЛИИ, ГК НИИ ВВС, ЦИАМ, ВИАМ, СибНИА, ГосНИИАС, 30-й ЦНИИ МО, НИИЭРАТ ВВС, НИАТ и др. Особое внимание Н.И. Камов уделял пополнению ОКБ квалифицированными кадрами. По его инициативе в 1963 году на территории фирмы был образован филиал Московского авиационного института.
Этапным в становлении боевой корабельной и палубной авиации флота стал вертолет Ка-25. Это был первый в стране специально спроектированный боевой вертолет. Появление Ка-25 неразрывно связано с созданием океанского флота и обеспечением надежной противолодочной обороны.
Проектирование началось с того, что зимой 1955/56 года начальник бригады общих видов Михаил Борисович Малиновский нарисовал картинки общих видов вертолета и предварительных его компоновок. А в марте 1956 года ОКБ получило официальное письмо из Управления опытного строительства авиационной техники (УОСАТ) ВМФ с просьбой определить возможность создания корабельного противолодочного вертолета с полетной массой 5–6 тонн. Этот запрос свидетельствовал о совпадении интересов ОКБ и ВМФ. Он послужил толчком для формирования облика новой машины. Уже 20 декабря 1956 года ОКБ направило в УОСАТ свой проект тактико-технических требований (ТТТ) к ней.
Согласование ТТТ проходило довольно тяжело и было закончено лишь в мае 1958 года. Несколько раньше (февраль 1958 г.) вышло Постановление Совета Министров СССР, которое содержало официальное поручение Министерству авиационной промышленности (ОКБ Камова) совместно с рядом других министерств разработать новый вертолет в двух вариантах: Ка-25 ПЛ и Ка-25Ц. Первый – охотник за подводными лодками, второй – разведчик надводных целей и целеуказатель мощному артиллерийскому и ракетному оружию кораблей и береговых баз.
Именно в этот период в мире стало распространяться новое мощное оружие — атомные подводные лодки, обладающие неограниченной дальностью плавания, способные нести на борту баллистические ракеты с ядерными боеголовками. Их появление вызвало развитие специального контроружия.
Первой страной, которая создала и начала эксплуатацию специального противолодочного вертолета, стали в 1954–1955 годах США (вертолет «Сикорский» 5-58 — «Си Бэг»).
Сложность задачи, стоящей перед ОКБ, не ограничивалась, однако, необходимостью создать соосный летательный аппарат, отвечающий высоким требованиям заказчика. Коллективу конструкторов предстояло решить ряд новых для него и вообще для авиационных ОКБ проблем, связанных с эксплуатацией вертолетов на кораблях. Притом, что последние отличались один от другого не только размерами (водоизмещением), но и конструктивными решениями систем и элементов, тем или иным образом связанных с базирующимися на них вертолетами. В начале работ над вертолетом стало очевидным, что для постройки двигателей и редуктора соответствующей размерности необходимо организовать специальное ОКБ.
Такое ОКБ было создано в городе Омске во главе с В.А. Глушенковым.
В результате нескольких лет напряженной работы ОКБ Камова построило первый советский боевой корабельный вертолет Ка-25.
На разных этапах постройки и доводки вертолета Ка-25 работами руководили заместители главного конструктора Н.Н. Приоров (проектирование и постройка), И.А. Эрлих (государственные испытания и доводка), В.Н. Иванов (серийное производство и эксплуатация). Ведущие конструкторы – Ю.А. Лазаренко и Е.Г. Пак, ведущий инженер по испытаниям – Г.П. Столетов.
Первые испытания выпали на долю Д.К, Ефремова, а после его гибели вертолет испытывали летчик-испытатель Е.И.Ларюшин, а также летчик-испытатель В.М.Евдокимов, военные летчики Е.Ф. Уралов, В.С. Елисеев, Е.И. Мдивани. Испытания в Люберцах обеспечивали специалисты летно-испытательной станции ОКБ, которыми руководил А.М. Конрадов, а затем В.Б.Альперович. Морские испытания проводились в Феодосийском филиале ОКБ, начальником которого был В.Н. Тимченко, а затем Д.Н. Семенов.
Особые заслуги в этом принадлежат Игорю Александровичу Эрлиху. Придя в ОКБ в 1960 году, он вскоре (в 1962) возглавил все работы по Ка-25, вплоть до освоения серийных машин в ВМФ.
Большую роль в постройке и доводке опытных образцов вертолета сыграл тогдашний директор завода, маститый организатор авиационных производств И.С.Левин. К его заслугам можно также отнести и строительство завода. Он предложил и возглавил организацию комплексных бригад для первоначальных доводок и испытаний машин, а также подготовку людей и винтокрылых аппаратов Ка-25 и
Ка-22 для участия в авиационном параде 1961 года.
Первый отрыв от земли «ресурсного» опытного вертолета состоялся в апреле 1961 года, а «летная» машина совершила первый полет по кругу 20 июня 1961 года. В серию вертолет Ка-25ПЛ на Улан-Удинском авиационном заводе был запущен в 1964 году по предварительному заключению НИИ ВВС. Поставки флоту начались в 1965 году.
Два первых серийных вертолета были оборудованы специальными комплексами аппаратуры для слежения за головной частью баллистических ракет на конечном участке полета. Эти вертолеты (Ка-25ИВ) принимали участие в операциях Тихоокеанского флота, связанных с испытаниями баллистических ракет.
Государственные испытания были закончены в 1968 году, а на вооружение авиации ВМФ Ка-25ПЛ приняли в начале 1972 года.
В 1972–1974 годах находящиеся в строю Ка-25ПЛ модернизировали. Двигатели заменялись более мощными (по 1000 л.с.). Устанавливались усиленные редукторы.
Вводилось новое вооружение (торпеды «Орлан» и ракеты-торпеды «Ястреб»).
Одновременно с заказом на разработку корабельного противолодочного вертолета Ка-25ПЛ конструкторское бюро получило заказ на разработку другого варианта машины — корабельного вертолета Ка-25Ц — целеуказателя корабельному и береговому ракетному оружию.
В 1970-х годах по решению правительства серийный завод начал строить вертолеты Ка-25ПС специально для проведения поисково-спасательных работ на море, в том числе для космических программ. Этот вертолет тоже был принят на вооружение авиации ВМФ.
Кроме этих трех модификаций
Ка-25, в ОКБ разработан и испытан боевой вариант вертолета Ка-25Ш.
В 1974 году группа специально подготовленных и испытанных вертолетов Ка-25БТ участвовала в качестве тральщиков в международной операции по разминированию Суэцкого канала.
Для Ка-25 специалисты ОКБ разработали соосную схему винтов, отвечающую современ-ному уровню научных знаний и освоенных в стране технологий. Аэродинамическая симметрия вертолета соосной схемы в сочетании с 20-процентным автопилотом и совершенным пилотажно-навигационным комплексом, а также простая техника пилотирования обеспечили возможность выполнения одним пилотом длительного боевого задания в любых погодных условиях.
Камовцы впервые оснасти-ли винтокрылую машину комплексом бортового радио-электронного оборудования и вооружения, обеспечивающим навигацию, вертолетовождение над безориентирной водной поверхностью, решение задач поиска подводной лодки и ее поражения как в ручном, так и в автоматическом режимах.
При постройке опытного экземпляра впервые пришлось осуществлять его адаптацию к кораблю-носителю. Сложность проблемы при этом заключалась хотя бы в том, что каждый метр пространства на корабле ценится на вес золота. Зная это, специалисты фирмы добились поразительного результата: при увеличении взлетной массы машины по сравнению с Ка-15 в 5 раз габариты ее увеличились только в 1,6 раза. В целях уменьшения размеров аппарата в походном положении для его размещения в ангарах конструкторы создали электромеханическую систему складывания лопастей винтов. Благодаря этому, например, габаритный размер планера по длине со сложенными лопастями составил около 11 метров. Н.И. Камову и его соратникам, несмотря на все препятствия, удалось построить винтокрылую машину, положившую начало массовому применению вертолетов соосной схемы.
Отработку методик посадок вертолета на суда различного класса днем и ночью, на «ходу» и «стопе», а также на водную поверхность осуществляли летчики-испытатели Е.И. Ларюшин, В.М. Евдокимов, Н.П. Бездетнов. Они выполнили большой объем испытаний по оценке системы автоматического регулирования двигателей, освоению полетов с одним отказавшим двигателем и производству посадок без пробега на режиме авторотации несущих винтов при неработающих двигателях.
Залогом надежной эксплуатации вертолетов Ка-25 в условиях корабельного базирования явились многочисленные морские и океанские походы, проведенные с участием специалистов ОКБ. Первый океанский поход Ка-25 состоялся в апреле—сентябре 1967 года на плавбазе «Тобол».
Всего в ОКБ построено более 18 модификаций вертолета Ка-25. Параллельно разрабатывались проекты модифицированных Ка-25 для гражданских целей. Однако им не суждено было осуществиться.
Первый океанский поход*
Обеспечение длительной автономности действий подводных лодок в конце
1960-х годов становится актуальной задачей. Для решения проблемы автономности применения субмарин конструкторы ЦКБ «Айсберг« (Санкт-Петербург) спроектировали плавбазу (проект 1886 «Тобол»), которая способна принять на обслуживание в океане сразу две атомные подводные лодки с экипажами и через 50–60 суток повторить эту операцию. Экваториальная экспедиция особого назначения «Прилив» — так назывался поход группы подводных и надводных кораблей, в которую входила плавбаза «Тобол», дизельные подлодки, атомные ракетные подлодки (проект 675), вспомогательное судно ПН-93 (плавучая мастерская, обеспечивающая замену ракет) и вспомогательные суда-снабженцы, привозившие все необходимое, была рассчитана на автономное плавание в течение 9 месяцев. Заходов в иностранные порты не планировалось. На «высоком» совещании на вопрос Главкома ВМФ СССР С.Г. Горшкова: «Как дела с вертолетом?» — Н.И.Камов оптимистично ответил: «Вертолет будет!» Однако не все шло гладко. Плавбаза «Тобол» имела только площадку для временного базирования вертолета, не было ангара для его хранения, емкостей для топлива и многих других важных компонентов. Ответственным за подготовку вертолета к походу Камов назначил своего заместителя Игоря Александровича Эрлиха.
Ка-25 в это время проходил государственные испытания, совершая полеты с кораблей Северного флота. Летчик-испытатель фирмы Евгений Иванович Ларюшин облетал ряд кораблей, таких как проект 57, проект 57бис, проект 58, проект 61, проект 1886, днем и ночью, демонстрируя возможности посадки и взлета вертолета с кораблей одиночного базирования при сильном волнении моря. Если к подготовке вертолета претензий было мало, то к подготовке корабля их оказалось существенно больше. Следовало разместить на плавбазе необходимые запасы авиационного топлива, специальных жидкостей и газов, организовать систему обслуживания судовых авиационных средств и вертолета, а самое главное — доработать взлетно-посадочную площадку для обеспечения посадки вертолета в сложных погодных условиях.
Для дооборудования «под вертолет» плавбазу поставили на ремонтный завод в городе Мурманске. Был предпринят ряд специальных мер, в результате вертолет к походу был готов.
Рассказывает И.И. Сарумов:
17 апреля 1967 года с внешнего рейда города Североморска начался первый океанский поход корабельного вертолета Ка-25. Начальником экспедиции был назначен адмирал Л.А.Владимирский, начальником штаба — капитан 1 ранга И.И.Карачев. Морякам с вертолетами забот хватало. Летный состав нуждался в особых бытовых условиях и, конечно, в летном довольствии. Многие проблемы решали трудно, иногда они доходили до самого начальника экспедиции Владимирского. Понимая, что вертолет нужен кораблю, Владимирский с большим вниманием относился к нашим просьбам.
Вертолет Ка-25 ПЛ ? 04-06, специально выделенный для участия в походе, был одним из первых серийных вертолетов, изготовленных на авиационном заводе в городе Улан-Удэ. Полеты с плавбазы «Тобол» предусматривалось проводить двумя летными экипажами: один экипаж летает, другой — руководит полетом. Командирами назначили майора Н.И.Павлова и капитана В.Е.Поздеева, оба — опытные летчики авиации Черноморского флота. Технический состав экипажей включал специалистов Северного и Черноморского флотов.
Поскольку опыта эксплуатации вертолета Ка-25 на кораблях авиация ВМФ не имела и этот поход был первым, решили, что технический военный экипаж будет дублировать бригада специалистов Ухтомского вертолетного завода. В нее вошли пять человек: руководитель бригады ведущий конструктор И.И.Сарумов, старший авиамеханик В.М.Антонов, авиамеханик по вертолету В.М.Евграфов, авиамеханик по электрооборудованию А.В.Михеев, инженер по противо-лодочному комплексу В.Н.Морозов, авиатехник по радиооборудованию Н.Ф.Злобарь.
Начало похода сразу показало ошибочность некоторых наших решений. Шли мы на север, где господствовали мокрый снег с дождем и шквальный ветер. Рано утром, после первого чая, я отправился осматривать вертолет, но выход на открытую палубу оказался задраенным «по-штормовому». Получив разрешение взглянуть на вертолет с поста назад смотрящего, я пришел от увиденного в ужас. Вертолет напоминал раскормленную свинью с отвисшим брюхом, а лопасти превратились в огромные сосиски. Дело в том, что чехлы были сшиты из полугерметичной ткани, и в них накопилась вода со снегом. Все могло кончиться весьма плачевно. Поэтому последовала команда срочно разрезать все чехлы и выбросить их за борт. Вот так началось наше знакомство с морской стихией!
За время похода вертолет налетал около 100 часов без каких-либо ЧП, но базирование на открытой площадке в условиях агрессивной морской среды не прошло для него бесследно. После проведения осмотра и дефектации комиссия из конструкторов ОКБ признала вертолет негодным для дальнейшей эксплуатации и рекомендовала его для списания. Виной тому — коррозия. Тогда Николай Ильич Камов направил письмо командованию авиации ВМФ и руководству серийного завода, в котором, ссылаясь на акт осмотра вертолета, обращал внимание на серьезность проблемы коррозии. После похода исчезли все доводы в пользу безангарной эксплуатации вертолетов на корабле. Главный же итог похода для вертолетчиков — такой вертолет нужен флоту, моряки высказались однозначно «за».
Одиночное и групповое базирование боевых вертолетов подверглось жесткой проверке на самых различных кораблях, в том числе на таких известных противолодочных крейсерах, как «Москва» и «Ленинград».
Поход на крейсере «Москва»*
Севастополь, 19 сентября 1968 года. Северная бухта, ясный солнечный день. На набережной собралось много народу проводить в первый поход противолодочный крейсер (ПКР) «Москва». Вся свободная от вахты команда построилась вдоль борта, там же были представители промышленности. Отзвучали напутственные речи, загремела трубами «Славянка», и корабль плавно направился из бухты в открытое море, обмениваясь прощальными гудками с другими кораблями. В ангарах корабля разместились 13 противолодочных вертолетов Ка-25ПЛ и один вертолет-спасатель Ка-25СП эскадрильи Качинского полка. Корабль держал путь через проливы Босфор и Дарданеллы в Средиземное море.
Цель похода: боевые учения — поиск своих подводных лодок (ПЛ) — дизельной и атомной, а также американских. Походу предшествовала титаническая работа, корабль и вертолеты необходимо было подготовить к автономной эксплуатации, а экипажи —
к поиску подводных лодок.
В состав бригады ОКБ входили: ведущий конструктор Г.М. Данилочкин (руководитель бригады), ведущий инженер В.И. Ященко (специалист по автопилоту), механик В.М. Любаев (специалист по противолодочному комплексу «Байкал»), механик В.М. Евграфов, электрик-приборист А.В. Михеев (специалисты по агрегатам и системам вертолета), инженер Л.А. Шигарев (специалист по двигателям).
Вспоминает Г.М. Данилочкин:
21 сентября провели первые ознакомительные полеты в условиях Средиземного моря, а с 23 сентября началась боевая учеба, которая продолжалась до 30 октября.
В первый же день выполнили 16 боевых вылетов с суммарным налетом 20 часов.
В последующие дни совершили по 20-26 вылетов с налетом 30-40 часов.
Начало боевых учений осуществлялось со своими подводными лодками, затем перешли к поиску американской подлодки. Всего за 40 дней похода эскадрильей было выполнено более 340 вертолето-вылетов с общим налетом 553 часа. Средний налет на вертолет составил 44 часа, максимальный — 53 часа 33 минуты. На суше за год налетывали обычно не более 40 часов.
Первый дальний поход на боевые учения первой боевой эскадрильи вертолетов Ка-25ПЛ на первом противолодочном крейсере «Москва» стал трудным испытанием не только для техники, но и для экипажей вертолетов, технического состава эскадрильи и боевых частей корабля. За время похода были устранены 74 отказа оборудования и более 120 дефектов и неисправностей. Уже в первую неделю выявили 23 отказа и 10 дефектов. Технический состав не имел достаточного опыта в эксплуатации вертолетов, поэтому основную тяжесть работ в части устранения неисправностей пришлось взять на себя бригаде ОКБ. Для обеспечения полетов необходимо было с утра иметь минимум девять исправных вертолетов. Шесть — для выполнения боевых вылетов с задачей поиска ПЛ, два — резервных и один — спасатель. Это была трудновыполнимая задача, однако ни один плановый день не был сорван из-за неготовности вертолетов.
Очень напряженная работа была у летчиков. Сказывался небольшой опыт выполнения висений по кабель-тросу в открытом море. Без привычки жутковато висеть на высоте 18 метров над морской пучиной. Кругом море, а сверху небо. И не видно ни одного корабля. Только напарник-вертолет рядом. Поначалу психофизиологическая нагрузка оказывалась настолько велика, что у некоторых летчиков верхняя граница артериального давления падала до 90–95 мм. Одного из них даже пришлось отстранить от полетов до конца похода. Для поднятия духа летчиков генерал Воронов сам впервые сделал вылет на вертолете Ка-25 на одной из стоянок. После полета Владимир Иванович отметил характерные для соосного вертолета высокую маневренность и управляемость.
Не сразу летчики освоили режим зависания и переход на автоматическую стабилизацию висения по кабель-тросу гидроакустической станции. Неточность выполнения режима они принимали за дефект системы стабилизации, приводившей к раскачке вертолета. Наземная проверка не подтверждала дефекта. Назревал конфликт. На трех вертолетах запретили летать. Осталась последняя надежда — Мдивани. Я попросил его облетать самому именно эти вертолеты. Он согласился. Три раза Георгий Николаевич повторял один и тот же маневр — стабилизировал зависание около корабля. И после этого выставлял в открытую дверь обе руки и левую ногу, показывая, что вертолет устойчиво висит на автопилоте. Потом возвращался на палубу и докладывал: «Вертолет работает отлично». Конфликта с летчиками не последовало.
Нелегко было и штурманам-противолодочникам. Им не хватало опыта в распознавании шумов подводной лодки в шумах моря. Они часто привозили ложные «контакты». Но учение шло. Росло умение, накапливался опыт, появлялась уверенность в надежности вертолета, отрабатывалась организация летного дня и взаимодействие всех звеньев. И вот долгожданный результат. 17 октября начался поиск американской подводной лодки. И вдруг в 7 часов вечера корабль облетела весть: с помощью радиогидроакустических буев установлен контакт с иностранной подводной лодкой сначала одним вертолетом, потом вторым и третьим. Полтора часа «вели» вертолеты лодку, но корабли, стремясь установить свой контакт, сблизились настолько, что своим шумом «забили» гидро-буи, а выявить шумы от подлодки не смогли. Стемнело. Установить новый контакт с подлодкой вертолетчикам не удалось, и все-таки они ликовали. Наша техника и экипажи сработали как надо! Вертолет Ка-25ПЛ и противолодочный комплекс «Байкал» испытание выдержали.
За все время учений не произошло ни одного чрезвычайного происшествия. На 340 вылетов было всего девять вынужденных возвратов из-за отказов материальной части. Все вертолеты вернулись в Севастополь в исправном состоянии.
Поход и полеты проходили при постоянном наблюдении кораблей и авиации США. 21 сентября американский морской патрульный самолет «Нептун» нас нашел и сопровождал до конца похода. 24 сентября к нам подошли два американских эсминца-близнеца ? 842 и ? 824, которые затем, поочередно меняясь, следовали за нами строго в кильватере, днем и ночью до возвращения в Дарданеллы. На последней стоянке перед входом в Дарданеллы, когда мы смотрели на верхней палубе крейсера «Москва» кинофильм «Кавказская пленница», один из эсминцев приблизился настолько, что с него можно было разглядеть в бинокль кадры фильма. Несколько раз к нам подходила американская плавбаза с двумя вертолетами продольной схемы «Синайт». Пролетая на «Синайте» над нашим кораблем, два американца через открытую створку помахали нам руками. Над нами на бреющем полете проносились «Фантомы», «Корсары», «Скайуорриеры» и другие самолеты. Кроме американцев проявляли интерес корабли и летательные аппараты с английскими, французскими, греческими и другими опознавательными знаками. Когда шли проливами, нас внимательно изучали с берегов. Наш поход наделал шуму на весь мир.
В целом значение первого похода на боевые учения крейсера «Москва» с вертолетами Ка-25ПЛ трудно переоценить. Закончился спор о том, нужен ли вертолет противолодочным кораблям. Поход подтвердил, что вертолеты Ка-25ПЛ являются для ПКР «Москва» основным средством поиска подводных лодок предполагаемого противника.
Во-первых, потому что Ка-25ПЛ способны обнаружить лодку, не демаскируя себя, кораблю же это недоступно.
Во-вторых, благодаря скорости и маневренности вертолеты обеспечивают быструю смену района поиска, а также необходимые перегруппирование и наращивание поисковых сил для поддержания длительного контакта с обнаруженной быстродвигающейся атомной ПЛ.
В-третьих, во время поиска вертолеты не снижают ходовых качеств и маневренности корабля, в отличие от корабельных гидроакустических установок. Кроме того, вертолет Ка-25ПЛ имеет на борту бомбо-торпедное вооружение и может самостоятельно атаковать и уничтожить любую подводную лодку. Во время похода летные экипажи приобрели большой опыт поиска подводных лодок, а инженерно-технические службы — навыки эксплуатации вертолетов и боевой части корабля в условиях длительного плавания. Специалистам же опытных конструкторских бюро удалось выявить недостатки и определить дальнейшие пути развития противолодочных кораблей и вертолетов.
В Индийском океане
В 1966–1967 годах решением правительства страны утверждается тема «Эллипс», которая предусматривает организацию и создание необходимых средств, обеспечивающих поиск и подъем с воды на борт корабля космических аппаратов, облетевших Луну.
По программе освоения космоса шла подготовка космического полета в целях испытания новой пилотируемой космической станции «Союз». Она должна была облететь вокруг Луны и совершить посадку по новой методике вхождения в плотные слои атмосферы. Такую посадку предстояло выполнить впервые. Порядок встречи спускаемого аппарата на суше был отработан. Не исключалось, что по каким-либо причинам спускаемый аппарат космического корабля отклонится от расчетной траектории входа в плотные слои атмосферы и приводнится в Индийском океане. В те годы существовал и действовал вертолет-спасатель Ми-8. Он применялся в основном для встречи на суше возвращающихся из полета космонавтов, подвозил бригады врачей, которые аккуратно вынимали космонавтов из спускаемых аппаратов. Но задача спасения космонавтов в условиях океана ставилась впервые. Было решено обеспечить дежурство в океане специально подготовленных кораблей со спасательными вертолетами на борту.
В качестве кораблей предполагалось использовать лесовозы, а в качестве вертолета — переоборудованный для этих целей Ка-25ПЛ. Руководство доработками вертолета возложили на заместителя главно-го конструктора Игоря Александровича Эрлиха, ведущими конструкторами темы стали Г.М. Данилочкин и Н.Н. Емельянов.
25 сентября 1967 года в Индийский океан из Балтийска на поисково-спасательных кораблях отправились первые три вертолета, пилотируемые летчиками Очаковского полка В.В. Кондауровым (старший по отряду), А.И. Романовым и Б.С. Котовым. 10 октября отправились еще три вертолета, пилоты – В.П. Левадний, К.И. Донцов, Д.К. Чайка. После двухмесячного дежурства в Индийском океане все вертолеты вернулись на базу в исправном состоянии. Они выдержали нагрузку при качке корабля с креном, нередко превышающим 30°, и коррозионное воздействие морской влаги при температуре воздуха плюс 25–35°С.
Говорит Г.М. Данилочкин:
Возрастающий объем предстоящих работ в Индийском океане потребовал создания в авиации Черноморского флота специального подразделения. В подразделение вошли в основном молодые летчики, которые только что закончили переучивание на вертолетах Ка-25. В феврале 1968 года состоялась конференция по итогам первой групповой экспедиции вертолетов Ка-25 на кораблях одиночного базирования. Участники конференции отметили положительный результат применения корабельного спасательного вертолета Ка-25СП
в акваториях океана. Выполненная работа получила высокую оценку командования.
В феврале того же года группа экипажей во главе с Н.А.Тимашковым снова отправилась в экспедицию и находилась в походе около 8 месяцев. Нужно было очень любить море и профессию корабельного летчика, чтобы такое длительное время работать в океане. Наибольшее количество походов в Индийский океан совершили летчики А.П.Канепс и В.Е.Поздеев. Всего же начиная с 1967 года по 1983 год данным подразделением было совершено более 60 походов. Причем если в первых походах налет на один вертолет составлял 8–9 часов, то к 1976 году он стал достигать 48 часов.
Если резюмировать тему, то не будет преувеличением сказать, что окончательное становление корабельной авиации в Советском Союзе, безусловно, связано с первым специально спроектированным боевым Ка-25. Если до Ка-25 применение вертолетов с кораблей носило эпизодический характер, а о решении ими боевых задач не приходилось даже и думать, то с появлением на флоте вертолета Ка-25 в Советском Союзе родилась боевая палубная авиация. Служба Ка-25 в течение 30 лет на кораблях подтвердила высокий профессионализм и зрелость его создателей.
В активе Ка-25 – выполнение важнейшей народохозяйственной задачи. Он обеспечивал навигацию судов в северных широтах, базируясь на атомном ледоколе «Сибирь». Разведка ледовой обстановки и проводка кораблей производились, как правило, в сложных погодных условиях при ограниченной видимости. Справиться с такой непростой задачей в то время способен был только Ка-25, оснащенный современным бортовым оборудованием, включающим РЛС кругового обзора. Размещение и обеспечение работоспособности мощной РЛС на предельно компактном вертолете соосной схемы было осуществлено впервые в мировой практике вертолетостроения. Множество технических решений, реализованных специалистами ОКБ при его проектировании, можно описывать, начиная со слова «впервые».
Всего на базе Ка-25 было разработано для ВМФ 18 различных модификаций вертолета, в том числе
Ка-25ПЛ, Ка-25Ц, Ка-25СП, Ка-25БТ,
Ка-25К и др. Все они также успешно, как и Ка-25ПЛ и Ка-25СП, решали важнейшие для страны военно-технические задачи. Вертолеты экспортировались в Индию, Сирию, Болгарию, Вьетнам и Югославию.
На базе боевого Ка-25 ОКБ предприняло попытку построить в инициативном порядке гражданскую модификацию — Ка-25К для выполнения грузопассажирских перевозок и монтажно-демонтажных работ. В 1967 г. вертолет Ка-25К успешно демонстрировался в статической экспозиции и в показательных полетах на авиасалоне в Ле Бурже. Появление вертолета соосной схемы, да еще такой «тяжелой» весовой категории, стало неординарным событием для мировой авиационной общественности.
Ка-25К способен был заменить в широком спектре авиационных работ замечательный, но уже морально устаревший вертолет Ми-4 с поршневым двигателем. При практически одинаковых взлетных массах обеих машин Ка-25К мог транспортировать груз массой 2000 кг, тогда как Ми-4 — только 1300 кг. Руководил постройкой данной модификации заместитель главного конструктора И.А.Эрлих. Ведущим конструктором был С.В. Михеев. Однако этому варианту вертолета не суждено было появиться в эксплуатации из-за принятия правительственного решения о размещении в Польше заказа на проектирование вертолета W-3 класса 6000...7000 кг.
За создание вертолета Ка-25 в составе проектов кораблей одиночного и группового базирования Н.И. Камову (1972), В.Н. Иванову (1972) и Ю.Г.Соковикову (1985) присуждены Государственные премии СССР.
Ка-26 – «летающие шасси»
С 1958 года началось широкое использование вертолетов в народном хозяйстве страны. Потребовались вертолеты для внесения удобрений в почву полей, садов и виноградников, а также для борьбы с вредными насекомыми и сорняками. Для этих целей Ка-15М и Ми-1 оснастили сельскохозяйственным оборудованием. Опыт их применения показал, что необходимо построить специализированный и более грузоподъемный вертолет для ведения широкого комплекса авиационных сельскохозяйственных работ. Таким вертолетом стал Ка-26 модульной конструкции — «летающее шасси».
История создания и внедрения в эксплуатацию вертолета Ка-26 почти детективная. Практически это было незаконнорожденное дитя, усыновленное впоследствии МГА. Саму идею постройки вертолета для МГА с двумя поршневыми двигателями высказал заместитель Николая Ильича Камова – Василий Васильевич Никитин в 1955 году. В ОКБ сделали наброски такой машины, подготовили проект требований, но преждевременная смерть (в возрасте 53 лет) В.В. Никитина в августе 1955 года приостановила эти работы. После ухода В.В. Никитина из жизни с новой инициативой выступил начальник бригады общих видов Михаил Борисович Малиновский, предложивший четырехместную модификацию Ка-15, получившую обозначение Ка-18. Это был первый вертолет, который создавался в интересах только гражданских эксплуатантов.
В середине 1950-х годов вышло Постановление Совета Министров СССР о внедрении вертолетов в народное хозяйство и прежде всего расширении их использования для борьбы с болезнями растений и внесения минеральных удобрений. На этих работах широко применялись самолеты По-2, Як-12 и особенно Ан-2.
Инициатором и идеологом создания такого вертолета стал Марк Александрович Купфер. Как заместитель главного конструктора он вел все работы по Ка-15, очень много времени проводил в эксплуатационных подразделениях и лучше других знал проблемы, с которыми сталкивались на практике.
На сей раз ОКБ Камова подвернулся очень удачный случай: готовилось постановление партии и правительства по химизации сельского хозяйства, и в Киеве должна была пройти выставка с показом новой техники для села. Предполагалось, что выставку посетит Н.С. Хрущев. Камовцы, конечно, собирались принять активное участие в этой выставке. Руководство понимало, что такой шанс нельзя упускать — есть реальная возможность получить задание на новый вертолет, а Марк Александрович сможет легализовать работы по Ка-26. К работе над вертолетом М.А. Купфер привлек Ю.И. Петрухина, который впоследствии на долгие годы станет ведущим конструктором по Ка-26. Первоначально Николай Ильич встретил в штыки предложение о создании нового вертолета, и, вероятно, у него на то имелись веские основания. Прежде всего, срывались сроки постройки корабельного вертолета Ка-25, а его с нетерпением ждали на флоте.
Это был непростой период в жизни Николая Ильича Камова: произошли две катастрофы винтокрыла Ка-22, причины которых так и не установили. Тему винтокрыла закрыли, однако специалистам ОКБ требовалась работа. Даже при всей важности доводки Ка-25 она не могла загрузить коллектив в целом. Вертолет Ка-26 привлекал многих еще и тем, что был в два раза легче Ка-25, то есть в весовом отношении занимал промежуточное положение между Ка-25 и Ка-15. Поэтому надеялись, что проблем с ним будет существенно меньше. К тому же заказчиком выступала только гражданская авиация, а это означало меньший объем летных испытаний. Кроме того, вертолет создавался только в сельскохозяйственном и транспортном вариантах.
Расчет оказался правильным, и после демонстрации материалов и модели вертолета Ка-26 Н.С. Хрущеву фирма получила добро на разработку нового многоцелевого вертолета Ка-26. В январе 1964 года вышло правительственное постановление о создании многоцелевого Ка-26 в двух вариантах: сельско-хозяйственном – для доставки 600–700 кг ядохимикатов, и транспортном — для перевозки шести пассажиров на дальность 400 км. В это время в ГВФ уже имелся сельскохозяйственный вариант вертолета Ми-2. Перед ОКБ стояла задача превзойти его по критерию «эффективность-стоимость», что и было успешно реализовано.
Работа над Ка-26 получила права гражданства, и теперь в нее на законных основаниях погрузился отдел технических проектов во главе с недавно назначенным молодым начальником Сергеем Николаевичем Фоминым. Активными участниками создания
Ка-26 стали Л.К. Сверканов, В.А.Касьяников и С.В. Михеев.
Создание Ка-26 пошло своим чередом. 18 августа 1965 года вертолет Ка-26 совершает первый полет и начинается четырехлетний марафон летных испытаний, доводок и внедрения в серию. Все эти годы ведущим инженером по летным испытаниям
Ка-26 был Владимир Семенович Дордан, впоследствии он возглавил летно-испытательный комплекс фирмы.
Государственные испытания завершились в 1968 году. Для запуска вертолета в серийное производство требовалось решение МГА. В те годы его возглавлял Л.Ф. Логинов, первым заместителем у него был Л.В. Жолудев, боевой летчик, прошедший войну, Герой Советского Союза, генерал-лейтенант, — прекрасный человек, влюбленный в авиацию. И, как впоследствии он вспоминал, дело обстояло так:
Вызывает меня Леонид Федорович и говорит: «Тут меня Камов одолевает, уговаривает посмотреть его вертолет. Ты у нас вертолетчик». А я был председателем макетной комиссии по Ми-8 для МГА. Подъезжаю на летное поле Центрального аэродрома. Стоит маленькая машина. Знакомлюсь с Камовым и экипажем. Занимаем с летчиком места в кабине. Машина в пилотировании мне понравилась. Конечно, трудно ее сравнивать с Ил-62, на котором я тогда летал. На меня в то время была возложена ответственность за внедрение Ил-62 в эксплуатацию в МГА. Возвращаюсь, докладываю Л.Ф. Логинову, что полезно будет иметь такой вертолет.
Вот так буднично и просто решилась дальнейшая судьба вертолета Ка-26. Конечно, много еще сил и времени пришлось потратить Н.И. Камову, чтобы Министерство авиационной промышленности выделило серийный завод. Опыт завода в Улан-Удэ, серийно выпускавшего Ка-25, показал, что вертолетная техника — «не подарок» при мизерных заказах, да и авиационные заводы практически все были заняты. И тогда на горизонте появился Кумертау. Завода там еще не было, его предстояло создать.
Начав наступление с подготовленного предыдущими разработками и доводкой Ка-25 плацдарма, Марк Александрович Купфер сосредоточил основное внимание на достижении максимальной простоты и минимальной стоимости сельхозмашины — «летающего трактора», как впоследствии назвала Ка-26 пресса. Поиски велись в основном в направлении выбора рациональной схемы планера с учетом широкого применения стеклопластика. В компоновочном плане была принята так называемая схема «летающее шасси».
На вертолете Ка-26 было установлено два тяжелых поршневых двигателя, по весовой отдаче (по коммерции, как любил говорить Марк Александрович) он не уступал вертолету Ми-2 с газотурбинными двигателями (масса двух газотурбинных двигателей вертолета Ми-2 была равна массе одного поршневого двигателя вертолета Ка-26). При запасе топлива на 1 час работы и взлетной массе 3250 кг у Ка-26 и 3550 кг у Ми-2 они поднимали по 600 кг химикатов. Это была конструкторская победа. И хотя вертолет Ка-26 не соответствовал тогдашней моде, которая требовала обязательного наличия газотурбинных двигателей, он был запущен в серийное производство и принят в эксплуатацию в подразделениях МГА в 1969 году, благодаря неоспоримым преимуществам перед Ми-2.
Важной находкой для вертолета Ка-26 стало применение нового конструкционного материала — стеклоткани для лопастей несущего винта, с которыми вертолет и совершил свой первый полет.
Противники вертолета Ка-26 пытались доказать, что ОКБ занимается разработкой технически отсталой, неконкурентоспособной техники, и именно использование тяжелого поршневого двигателя было самым «весомым» аргументом. Против вертолета выступили и специалисты институтов, и руководители Министерства авиационной промышленности. Главному конструктору Н.И. Камову пришлось приложить немало сил, чтобы после согласия МГА получить наконец разрешение на серийное производство. Но радость оказалась преждевременной. Серийный завод определили, но завода... нет. Тогда принимается решение, что вертолет будет строиться в кооперации нескольких авиационных заводов, в городе Кумертау осуществляется только сборка, а заодно и строительство завода, и обучение заводских кадров. Получилось, что отпускная цена первых серийных вертолетов становится чуть ниже цены самолета Як-40! Еще одно веское доказательство якобы несовершенства конструкции Ка-26 — его нетехнологичность и дороговизна. В результате стоимость летного часа Ка-26 оказалась выше, чем у Ми-2 (вертолет Ми-2 сотнями делали в Польше, где в городе Свиднике с 1965 года было организовано его производство), и эксплуатанты стали отказываться от Ка-26. В конце концов серийный завод построили, он стал самостоятельно устойчиво производить вертолеты Ка-26 (до 45 экземпляров в год). В этом большая заслуга Генерального директора завода Александра Самойловича Палатникова.
С 1967 по 1970 год было построено и испытано несколько модификаций вертолета Ка-26: корабельный, лесопатрульный, санитарный, геологоразведочный, вертолет-кран, патрульный вариант для ГАИ и др.
К вертолету в базовой конфигурации можно было добавлять комплекты быстросъемного оборудования: пассажирскую (транспорт-ную) кабину, грузовую платформу, сельскохозяйственную аппаратуру и т.д., превращая его за 1,5—2 часа в любой из необходимых вариантов.
Начало 1970-х годов для ОКБ было многообещающим: во-первых, был принят на вооружение корабельный вертолет
Ка-25 и, во-вторых, получен сертификат типа по американским нормам летной годности FAR-29 на многоцелевой вертолет Ка-26.
Это обстоятельство открывало возможности продажи (а не поставок по военным обязательствам или в качестве помощи дружественным странам) вертолета за рубеж. В 1970 году первый вертолет
Ка-26 был куплен Швецией. Затем последовали поставки в Японию, ФРГ, ГДР, Венгрию, Болгарию, Румынию и другие страны. Иностранным эксплуатантам продана одна треть выпущенных вертолетов. Ка-26 использовали не только в сельском хозяйстве, но и в армии — в Венгрии и Румынии, и в полиции — в ФРГ и ГДР. Один вертолет продали подставной фирме, и он попал в США, где прошел обстоятельные испытания.
В отчете фирмы «Локхид», проводившей испытания, отмечалось, что вертолет полностью отвечает заявленным данным, обладает отличной маневренностью и хорошей управляемостью.
Ка-26 — первый и единственный советский вертолет, который обладал этим сертификатом на протяжении 25 лет.
И только в 1998 году к нему присоединился вертолет Ка-32, получивший по этим же нормам сертификат в Канаде.
Более 35 лет он нес трудовую вахту. Общий налет на данных аппаратах составляет 2907000 ч. В 1980 и 1982 годах на вертолете установлено пять мировых рекордов. Всего выпущено 816 вертолетов Ка-26.
Новая визитная карточка – Ка-32
В мае 1978 года МГА обращается в МАП с просьбой о создании для гражданской авиации вертолета, выполняющего работы над морем. Возникает идея предложить поисково-спасательный вертолет Ка-252ПС (впоследствии после принятия на вооружение он получит обозначение Ка-27ПС), который строился по заданию авиации ВМФ. Данная тематика оказалась весьма актуальной, тем более что в соответствии с решениями XXV съезда КПСС требовалось значительно расширить сроки навигации на Северном морском пути. Период плавания должен был включать и полярную ночь. Выполнение полетов ночью и в сложных погодных условиях на вертолете Ми-2, который использовался на ледоколах, оказалось невозможным из-за отсутствия на нем РЛС и соответствующего навигационного оборудования. Всем этим располагал вертолет Ка-252ПС. МАП и МГА пришлось согласиться с предложением ОКБ Камова. Начало полетов с ледокола назначалось на ноябрь 1979 года, и в зимнюю навигацию 1979/80 года планировалось провести испытания вертолета по определению особенностей его применения для ледовой разведки с борта ледокола в различных условиях, в том числе и в условиях полярной ночи.
Опытный (единственный) экземпляр Ка-252ПС проходил государственные испытания. Тогда по предложению В.А. Касьяникова, активно поддержанному Главным конструктором С.В. Михеевым, несмотря на большую загруженность ОКБ летными испытаниями вариантов Ка-252, с целью приобретения опыта практического применения вертолетов с ледоколов решено было в навигацию 1978/79 года использовать хорошо зарекомендовавший себя в ВМФ вертолет Ка-25. Закипела работа — ведь до выхода в Северный Ледовитый океан оставалось несколько месяцев, а требовалось подготовить не только атомный ледокол «Сибирь» для базирования на нем вертолета Ка-25, но и вертолет, на котором предстояло установить радиолокационную аппаратуру «Север» для измерения толщины льда и мощные прожекторы.
В ноябре 1978 года экспедиция впервые в истории освоения Арктики отправилась в поход полярной ночью. Летный экипаж состоял из летчика-испытателя Николая Павловича Бездетнова, штурмана Михаила Ивановича Рябова и гидролога Руслана Александровича Борисова. Технический состав — механики Е. Губанов и В. Черныш — возглавлял Николай Федорович Суриков.
Летали в очень сложных условиях. Морозы до -50°С, метели, снегопады. Налет составлял 5–7 часов в сутки. Результаты эксперимента превзошли самые смелые фантазии. РЛС «Инициатива-2К» вертолета позволяла видеть трещины во льдах и разводья, гидролог отмечал обстановку на карте, и это давало возможность капитану атомохода «Сибирь» выбирать оптимальный маршрут в ледяном безмолвии. Используя РЛС «Инициатива-2К», вертолет мог уходить от ледокола на значительные расстояния. Атомоход всегда находился в поле зрения вертолета благодаря такому «глазу», и на него всегда можно было вернуться. Все шло, казалось, хорошо. Но специалисты ОКБ приобрели очередную «головную боль»: МГА требовал Ка-25 и отказывался от более тяжелого вертолета Ка-252. Примешивалась и горечь оттого, что камовцы в свое время предлагали МГА
Ка-25, но получили от ворот поворот. Он был не нужен! А теперь... Серийное производство вертолета прекратили еще в 1974 году, о его возобновлении не могло быть и речи.
В конце концов в мае 1979 года с учетом результатов похода появляется совместный план-график МАП–МГА–ВВС, которым предусматривается процедура передачи опытного вертолета Ка-252ПС для переоборудования в интересах МГА. Новый вариант получает обозначение Ка-32. Это фиксируется Постановлением ЦК КПСС и СМ. Так рождается новый вертолет, которому предстоят сложные испытания, пока он не получит признание в Советском Союзе и за рубежом. Именно он на десятилетия станет визитной карточкой фирмы «Камов», представляя гражданское направление работ. В сентябре 1979 года заканчиваются контрольные летные испытания нового вертолета Ка-32. Он готов к эксплуатации на ледоколах. В феврале 1980 года начинается совместная с ГосНИИ ГА работа по опытному применению вертолета Ка-32 на ледовой разведке.
Летный экипаж вертолета был смешанный. Летчики: Н.П. Бездетнов (ОКБ) и В.А. Андреев (ГосНИИ ГА), штурманы: Г.В. Шилин (ОКБ) и А.Г.Цоглин (ГосНИИ ГА), гидролог — бессменный Р.А. Борисов. Возглавлял экспедицию ведущий инженер В.П.Кочелаевский. Полеты полярной ночью для глубокой (дальность полета до 250 км) и оперативной ледовой разведки, обеспечивающей проводку судов по наивыгоднейшему маршруту, выполня-лись в районах Баренцева и Карского морей. Кроме того, вертолет доставлял служебный персонал, грузы, больных, почту на берег и другие суда, находящиеся на удалении до 150 км. Общий налет на этих работах за два месяца составил около 100 часов. Результаты опытного применения вертолета и анализ его возможностей дали основание министерствам гражданской авиации и морского флота сделать важные выводы: «Ка-32 — единственный отечественный вертолет, пригодный к круглогодичной эксплуатации в условиях Арктического бассейна с базированием как на борту судна, так и на береговых базах; Ка-32 по уровню насыщенности радиоэлектрон-ным и приборным оборудованием качественно отличается от вертолетов, эксплуатируемых в МГА».
Успешная экспедиция вертолета Ка-32 на атомном ледоколе «Сибирь» подвигла МГА на решительный шаг — в апреле 1980 года оно выдает проект технического задания на многоцелевой вертолет Ка-32.
Однако техническое задание было утверждено МГА только в октябре 1981 года, то есть понадобилось целых 1,5 года, чтобы согласовать с МАП и МГА техническое задание (ТЗ) на машину, которая прошла суровые государственные испытания, была принята на вооружение авиации ВМФ и серийно выпускалась! И это в условиях, когда альтернативного решения для выполнения Постановления ЦК КПСС и Совета Министров о дальнейшем развитии судоходства в Арктическом бассейне и не предвиделось. Несомненно, таким образом демонстрировалось отношение некоторых руководителей авиационной промышленности к ОКБ Камова — этакое своеобразное наказание за непослушание, за активное стремление фирмы вырваться из раз и навсегда предписанных рамок. В итоге определились два варианта вертолета: транспортный Ка-32Т и судовой Ка-32С (с РЛС) для ледовой разведки и разгрузки судов. Была принята программа постройки ледоколов, судов-снабженцев ледового класса, лихтеровозов и контейнеровозов. Все это вселяло оптимизм и надежду, что вертолет крепко встанет на ноги, так как на данных ледоколах и судах предстояло базироваться именно вертолету Ка-32.
В октябре 1981 года в городе Минске проходила IV научно-техническая конференция и выставка стран — участниц СЭВ по применению авиации в народном хозяйстве. Естественно, ОКБ Камова на этой выставке представляло вертолет Ка-126, который должен был заменить Ка-26 и Ми-2 в странах СЭВ. В Минск прибыли руководители авиационных ведомств практически всех стран СЭВ. Главный конструктор С.В.Михеев решил воспользоваться ситуацией. Заинтересовав идеей летной демонстрации вертолета Ка-32 представителей МГА, он обратился в МАП за разрешением показать Ка-252ПС под маркой Ка-32 (ведь машины Ка-32, построенной по ТЗ, еще не было). Вертолет срочно вызвали из Феодосии, где он проходил испытания. Ночью перекрасили звезды на флаг, подготовились к показательной демонстрации. И 30 октября 1981 года вертолет Ка-32 в летной программе был представлен прессе, телевидению, публике на аэродроме под Минском. Вертолет не просто пронес на внешней подвеске грузовик и поставил его на поле аэродрома — он завис над грузовиком, с борта были спущены на лебедке два человека, которые освободили автомобиль от тросов и... вертолет по воздуху, а автомобиль по земле покинули аэродром. Появились статьи в газетах, журналах. Период искусственного умалчивания о работах фирмы «Камов» над новым вертолетом для МГА закончился.
Было ясно, что для Ка-32 надо искать свою нишу в таких областях применения, где ему не сможет противостоять вертолет Ми-8. ОКБ с интересом отнеслось к предложению испытать вертолет на вывозке древесины под городом Сочи на Кавказе. Прошедшие в сентябре 1982 года опытно-промышленные испытания вертолета Ка-32 на трелевке древесины в горных условиях показали его высокую производительность (она превысила производительность Ми-8 в 1,5 раза). Испытания выполняли на опытном образце вертолета Ка-32 летчики-испытатели фирмы Г.С. Исаев и А.Х. Хасьянов.
В 1983 году ГосНИИ ГА провел очередные испытания — на этот раз по разгрузке судна на острове Медвежий. Всего за 30 рейсов с корабля на берег на вертолете Ка-32 переброшено почти 200 тонн груза. Эксперимент прошел удачно, поэтому было принято решение ввести вертолеты в состав будущих караванов судов. Таким образом, испытания вертолета Ка-32 в транспортном варианте успешно завершились, и в 1986 году гражданская авиация получила первый серийный вертолет. Головным авиапредприятием по освоению вертолета Ка-32 определили Мурманский авиаотряд.
В феврале–марте 1985 года состоялась очередная экспедиция на ледоколе «Сибирь». Но она принципиально отличалась от предыдущих тем, что включала эксплуатационные испытания вертолета Ка-32 летным и наземным экипажами ГосНИИ ГА. Командиром вертолета Ка-32 в экспедиции стал летчик I класса Г.В. Провалов, руководителем испытательной бригады — ведущий инженер М.В. Шерстюк.
В 1985 году состоялся 36-й международный салон авиации и космонавтики в Ле Бурже, где вертолет Ка-32 впервые принял участие в летном показе и наземной экспозиции. Вертолет привлекал внимание специалистов и прессы — ведь это была новинка не только фирмы «Камов», но и российского вертолетостроения.
Практически ежедневно вертолет, пилотируемый летчиком-испытателем Д.И.Автуховым, демонстрировал в парижском небе небывалую для такого класса винтокрылых машин маневренность и управляемость. Трудно было поверить, что это летательный аппарат массой 10–11 тонн и грузоподъемностью — 5 тонн. На стендах фотографии иллюстрировали возможности вертолета при вывозке древесины, разгрузке судна. Впечатляли кадры: Ка-32 на фоне торосов Ледовитого океана и атомного ледокола «Сибирь». Специалистов и посетителей удивляли и летно-технические характеристики вертолета — за последние годы на нем летчицами-спортсменками Н.И. Ереминой и Т.И. Зуевой были установлены мировые рекорды высоты полета (без груза и с грузом) и скороподъемности.
В апреле 1990 года по просьбе швейцарской компании «Хелисвисс хеликоптерс» в «Авиаэкспорте» состоялись переговоры между «Авиаэкспортом», фирмой КАМОВ и швейцарской компанией и был подписан протокол о намерениях провести демонстрационно-коммерческие работы вертолета Ка-32 в Швейцарии. Демонстрационно-коммерческие работы состоялись в июле-сентябре 1990 года.
В Швейцарию были командированы Ю.Г.Соковиков, И.Н. Евдокимов, летчик-испытатель Г.Н. Шишкин, штурман А.М.Виноградов и технический состав. Вертолет Ка-32 очень хорошо показал себя на вывозке древесины, и с фирмой «Хелисвисс хеликоптерс» был подписан контракт на лизинг вертолета.
Работы в Швейцарии привлекли внимание других зарубежных фирм — Канады, Италии, Франции. Ка-32 заинтересовалась канадская фирма «Ванкувер айленд хеликоптерс». Перед ОКБ встала серьезная проблема — получение сертификата типа на машину. Попасть на западный рынок без сертификата не представлялось возможным. Для получения западного сертификата необходимо сначала представить сертификат национальный. Однако отечественных норм летной годности не существовало — новых еще не было, а старые уже не действовали. ОКБ стало заниматься разработкой новых норм летной годности для вертолетов. Сертификацией вертолета Ка-32 руководил заместитель главного конструктора Ю.Г. Соковиков. Родились нормы летной годности НЛГВ 32-29 для вертолета Ка-32 с учетом FAR.29.
Процесс сертификации длился три года. Доработанный по нормам вертолет Ка-32А совершил свой первый полет в 1990 году, а национальный сертификат типа был получен только в 1993 году. На получение сертификата типа на вертолет по FAR.29 понадобилось пять лет. В 1998 году Министерство транспорта Канады выдало сертификат типа за номером
Н-100 на вертолет Ка-32, получивший обозначение Ка-32А11ВС.
Фирма «Камов» еще раз доказала, что способна создавать не только уникальные, не имеющие аналогов в мировой практике корабельные и боевые, но и гражданские вертолеты, полностью отвечающие высоким зарубежным требованиям.
Боевые вертолеты нового поколения
Но вернемся на несколько лет назад, чтобы воссоздать ситацию с такими машинами, как Ка-27, Ка-29 и другими детищами камовцев, вошедшими в историю отечественной и мировой авиации. Наступил момент, когда дальнейшая модернизация легендарного Ка-25 перестала давать желаемые результаты. Для авианесущих кораблей требовался новый вертолет. По заказу ВМФ в 1970 году ОКБ приступает к проектированию боевого корабельного вертолета следующего поколения, получившего обозначение Ка-252. В соответствии с требованиями военных моряков винтокрылая машина должна была иметь те же габариты, что и Ка-25. Диктовалось это условиями базирования на уже построенных кораблях различного класса.
Началась кропотливая работа профессионалов ОКБ, возглавляемых главным конструктором Н.И. Камовым. Крупнейшим достижением Н.И. Камова и его соратников является создание оригинальных конструкции и технологии изготовления высокоресурсных лопастей несущих винтов из полимерных композиционных материалов.
Неординарная личность Николая Ильича как магнит притягивала таких же, как и он, фанатиков авиации. Директором опытного завода ОКБ в то время был Н.Н. Приоров. Летно-испытательным комплексом руководил В.Б. Альперович, испытатель с большим стажем. Важнейшие направления работ возглавляли талантливые заместители главного конструктора В.И. Бирюлин, М.А. Купфер, В.Н. Иванов, И.А. Эрлих и С.Н. Фомин.
Исследованиями проблем аэродинамики и динамики вертолетов соосной схемы, созданием и совершенствованием методов аэродинамического расчета, расчета характеристик устойчивости и управляемости винтокрылых машин занимался отдел ОКБ под руководством Э.А. Петросяна. Многие сотрудники этого отдела были специалистами мирового уровня. Под началом А.И. Дрейзина и Г.В. Якеменко разрабатывались методики расчета прочности и частотных характеристик камовских конструкций, нагрузок и напряжений в лопастях несущих винтов; способы предотвращения флаттера лопастей винтов, «земного и воздушного» резонансов.
Новый боевой вертолет Ка-27 (Ка-252) впервые поднялся в воздух 24 декабря 1973 года. Пилотировал вертолет шеф-пилот ОКБ Е.И. Ларюшин. Этого волнующего события Н.И. Камов не дождался. Он скончался 24 ноября 1973 года. Дальнейшие работы по вертолету продолжили его соратники И.А. Эрлих, М.А. Купфер,
В.Н. Иванов, С.Н. Фомин, Ю.Г. Соковиков, Е.Г. Пак, Ю.А. Лазаренко, а также преемник Сергей Викторович Михеев.
В 1974 году ОКБ было присвоено имя Н.И. Камова. Память о Николае Ильиче — в построенных им винтокрылых аппаратах, а также во вновь создаваемых вертолетах с эмблемой «Ка».
Руководитель такого ранга на пороге 70-летия, без сомнения, собирался подготовить себе преемника из числа ближайших соратников. Однако сделать это он не успел.
Руководство оборонного отдела на Старой площади после внимательного рассмотрения трех кандидатур на пост руководителя ОКБ остановило свой выбор на 35-летнем начальнике отдела Сергее Викторовиче Михееве. Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР С.В. Михеев назначается ответственным руководителем — главным конструктором. Таким образом, ставка была сделана на молодого руководителя нового типа.
После окончания Московского авиационного института в 1962 году Сергей Михеев получил направление в КБ Н.И. Камова. В течение 12 лет рука Судьбы уверенно вела его от должности инженера-конструктора третьей категории, через следующие категории, к должностям начальника бригады, ведущего конструктора, начальника отдела и, наконец, руководителя ОКБ, которое он успешно возглавляет свыше 30 лет.
После назначения С.В. Михеева в апреле 1974 года Главным конструктором и ответственным руководителем завершилась постройка опытных корабельных вертолетов нового поколения, положившая начало этапу «мудрой зрелости» уже известного во всем мире вертолетостроительного ОКБ. В 1978 году успешно закончились государственные испытания Ка-27 с двумя ГТД ТВЗ-117ВК, а в 1979 году в городе Кумертау приступили к его серийному производству. В 1982 году на базе Ка-27 разрабатывается Ка-28 — экспортный вариант, отличающийся отдельными элементами специального оборудования, увеличенной вместимостью топливных баков и двигателями, имеющими чрезвычайный режим повышенной мощности. Вертолет Ка-28 экспортировался в Индию, Сирию, Вьетнам, Югославию и Кубу. Затем по заказу ВМФ были созданы новые модификации: поисково-спасательный Ка-27ПС, специальный Ка-27ПСД и др.
Боевой корабельный Ка-27 (Ка-28) превосходил своего предшественника по всем параметрам боевого применения. Эффективность противолодочной обороны кораблей ВМФ с его появлением значительно повысилась. Вертолет был оснащен современным интегральным комплексом бортового оборудования, более совершенными самонаводящимися торпедами и торпедами-ракетами с ядерными боеголовками и глубинными бомбами. Ка-27 обеспечивает выполнение боевой задачи по поиску и атаке атомных подводных лодок противника в любой точке Мирового океана днем и ночью, в любых погодных условиях. Новый боевой вертолет соосной схемы при увеличении взлетной массы в 1,5 раза сохранил габариты Ка-25. Это обеспечило его базирование на кораблях ВМФ, оборудованных под его предшественника. За создание вертолета Ка-27 в 1982 году коллективу разработчиков, в том числе С.В. Михееву, М.А. Купферу и И.А. Эрлиху, была присуждена Ленинская премия.
По заказу ВМФ в 1973 году ОКБ приступило к проектированию и постройке на базе Ка-27 транспортно-боевого корабельного вертолета Ка-29. Руководство работами по данной машине было поручено заместителю главного конструктора С.Н. Фомину. Его помощником стал ведущий конструктор Г.М. Данилочкин, ведущим инженером по испытаниям — В.Б. Баршевский. Первый полет на опытном образце 28 июля 1976 года совершил летчик-испытатель Е.И. Ларюшин. Ка-29 повысил мобильность и эффективность десантных операций на акваториях с базированием как на кораблях, так и на береговых базах. Вертолет оснастили эффективным комплексом прицельно-пилотажного и связного оборудования. Его вооружение в боевом варианте включало ПТУР, пушку, НАР, бомбы и оружие контейнерного типа. В транспортном варианте он мог перевозить 16 десантников, крупногабаритные грузы на внешней подвеске до 4000 кг и был вооружен скорострельным пулеметом калибра 7,62 мм. Государственные испытания завершились в мае 1979 года, в 1984 году началось его серийное производство.
В мировой практике вертолетостроения аналога Ка-29 не существует. В 1987 году за участие в создании комплекса вооружения вертолета Ка-29 Г.М. Данилочкину была присуждена Государственная премия СССР.
Побеждает «Черная акула»*
Особое место в истории фирмы занимает тематика, связанная с армейской авиацией. Еще при жизни Н.И. Камова в 1968 году ОКБ приняло участие в конкурсе аванпроектов на армейский транспортно-боевой вертолет. Министерству обороны была предложена модификация Ка-25 — Ка-25Ф на лыжном шасси. Проект Ка-25Ф получил положительное заключение институтов ВВС, однако окончательное решение заказчика все же было в пользу другого участника конкурса — вертолета Ми-24.
В 1975 году Министерство обороны заказало ОКБ Н.И. Камова и ОКБ
М.Л. Миля постройку на конкурсной основе боевых экспериментальных вертолетов для выбора одного из них на смену Ми-24. На суд экспертов ОКБ Н.И. Камова представило одноместный вертолет В-80 соосной схемы с двумя ГТД ТВЗ-117, бортовым интегральным радиоэлектронным комплексом, мощным разнообразным вооружением, катапультным креслом для спасения пилота, способный успешно поражать заданные цели и выживать на поле боя в XXI веке. Первый полет на опытным образце 17 июня 1982 года совершил летчик-испытатель Н.П. Бездетнов. Летные испытания возглавил ведущий инженер по испытаниям В.С. Дордан.
Вертолет В-80, ныне известный как Ка-50 или «Черная акула», был подвергнут жесткой проверке в процессе сравнительных с Ми-28 государственных испытаний (1984—1986) в условиях, близких к боевым, выполнил все заданные требования и выиграл конкурс Министерства обороны.
Схватка двух вертолетных КБ, двух генеральных конструкторов прошла столь драматично, что стоит ее осветить подробно, воспользовавшись свидетельством очевидца, одного из участников конкурса Ми-28 и Ка-50 полковника Г.Кузнецова.
Тактико-технические требования к вертолету-штурмовику, разработанные институтами Минобороны, были утверждены в 1968 году главнокомандующими ВВС и Сухопутных войск. После этого состоялся выбор разработчика боевого аппарата по результатам конкурса аванпроектов винтокрылых аппаратов, представленных ОКБ Миля и Камова.
ОКБ Н.И. Камова предложило создать армейский транспортно-боевой вертолет на базе уже освоенного в серийном производстве Ка-25. По мнению специалистов Ухтомского вертолетного завода (УВЗ), так в то время именовалось ОКБ Камова, серийный выпуск аппаратов можно было начать в 1969 году.
Московский вертолетный завод (МВЗ) на суд экспертов представил аванпроект Ми-24. Специалисты ОКБ М.Л. Миля утверждали, что опытный Ми-24 в серийное производство мог быть передан также в 1969 году.
Сравнительную оценку вертолетов Ка-25Ф и Ми-24 на этот раз осуществлял ЦНИИ ВВС, который возглавлял генерал-лейтенант авиации А.П. Молотков, с привлечением специалистов ГНИКИ и НИИ ЭРАТ.
Проект винтокрылого штурмовика Ка-25Ф получил положительное заключение, однако окончательное решение все же было принято в пользу транспортно-боевого вертолета Ми-24. Заказчик отдал предпочтение более мощному вертолету, имевшему к тому же лучшую перспективу в плане дальнейшей модернизации. По общему признанию специалистов, он является действительно выдающимся винтокрылым аппаратом, не имевшим в свое время себе равных среди боевых вертолетов мира.
Серийное производство тяжелого винтокрылого штурмовика Ми-24 началось в 1970 году (в экспортном варианте он именовался Ми-25). Вертолет широко использовался в Афганистане.
Однако потребовалось срочно дорабатывать вертолет, созданный под западноевропейский театр военных действий.
Оценка эффективности штурмовика в интересах подразделений, дислоцирующихся в Афганистане, вскоре позволила испытателям ГНИИ ВВС обосновать вывод о нецелесообразности проведения дальнейшей его модернизации, связанной с увеличением массы пустого аппарата. Боевой вертолет стал тяжелым и недостаточно маневренным.
Позднее (в 1976 году) ОКБ Камова построило транспортно-боевой вертолет Ка-29 для ВМФ на базе соосного боевого корабельного противолодочного вертолета Ка-27. Ка-29 при равенстве взлетных масс, одинаковых двигателях и вооружении превзошел Ми-24 по ряду летно-технических характеристик, в том числе на 1700 метров по статическому потолку и почти вдвое по точностным характеристикам идентичного неподвижного пушечного и неуправляемого ракетного оружия.
В 1970-х годах США принимают действенные меры по ликвидации превосходства боевых вертолетов СССР. Проводится конкурс нескольких вертолетных фирм с постройкой экспериментальных боевых армейских вертолетов и их проверкой в полигонных условиях. В результате на конкурсной основе фирма «Хьюз» создает боевой ударный вертолет АН-64А «Апач». Серийный выпуск данного аппарата начался в 1983 году.
Известно, что жизненный цикл летательного аппарата ограничен. Наступил такой момент и для Ми-24, когда дальнейшая его модернизация перестала давать желаемые результаты. Вскоре выяснилось, что Ми-24 существенно уступает боевому вертолету США нового поколения АН-64А. И тогда в роли догоняющего оказывается СССР.
В соответствии с существовавшими тогда в СССР канонами создание нового перспективного вертолета на замену Ми-24, можно сказать, началось своевременно. Об этом свидетельствует вышедшее в 1976 году Постановление ЦК КПСС и СМ СССР ? 1043-361. Министерство обороны заказало МВЗ и УВЗ постройку на конкурсной основе экспериментальных боевых вертолетов. Тактико-техническое задание (ТТЗ) было утверждено в 1980 году главнокомандующими ВВС и СВ.
Для проведения сравнительной оценки винтокрылых машин была сформирована бригада из самых опытных специалистов головных институтов Минобороны. Они приняли активное участие в НИОКР, в рассмотрении эскизных проектов и макетов, в изучении материалов, представляемых ОКБ для сравнительной оценки боевых вертолетов.
Бригаду специалистов от Министерства обороны по сравнительным испытаниям вертолетов предложили возглавить опытному инженеру-испытателю Григорию Ивановичу Кузнецову. Вместе с ним в «жюри конкурса» вошли вооруженцы В.А.Воробьев и А.И. Елетин, которым предстояло оценивать новые боевые вертолеты; опытные летчики-испытатели полковники В.И. Костин, З.В. Юдин, А.С. Папай и другие, летавшие на всех типах вертолетов ОКБ Миля.
Тяжелое бремя — выбрать вертолет — легло на плечи начальника 4-го управления института генерал-майора авиации, заслуженного летчика-испытателя Героя Советского Союза А.С. Бежевца, получившего боевое крещение в арабо-израильском конфликте на самолете МиГ-25РБ. Помощниками руководителя бригады стали два опытных инженера-испытателя 2-го отдела подполковники А.Г. Бурлаков и В.И. Турчин.
Значительный прогресс в подготовке к предстоящему конкурсу между УВЗ и МВЗ был достигнут в результате разработки и согласования методики сравнительной оценки боевых возможностей и боевой эффективности двух винтокрылых штурмовиков. Затем окончательно определился и перечень необходимых параметров, характеристик и материалов, которые конкурирующие фирмы были обязаны представить 30-му ЦНИИ ВВС, ответственному за указанную оценку. Под методикой свои подписи поставили руководители ОКБ М.Н. Тищенко и С.В. Михеев, а также руководители головных институтов Минобороны и Минавиапрома. От 30-го ЦНИИ ВВС эту кропотливую и трудную работу возглавляли кандидаты технических наук полковники В.С. Платунов и П.С. Фукалов. Группой специалистов от Института авиационной и космической медицины руководил начальник управления доктор медицинских наук полковник В.А. Пономаренко, а от НИИ ЭРАТ — доктор технических наук полковник А.М. Володко.
Таким образом, профессиональный уровень специалистов головных институтов Минобороны, задействованных в проведении конкурса, был исключительно высоким. УВЗ построил одноместный вертолет В-80 (Ка-50) соосной схемы, первый полет которого состоялся в июне 1982 года. Одновинтовой Ми-28 с двумя членами экипажа поднялся в воздух в декабре того же года. В 1983 году оба ОКБ провели заводские испытания своих машин по программам, согласованным с ГНИКИ ВВС, и с участием специалистов бригады от Минобороны. В ходе этих испытаний подтвердилось соответствие основных данных машин ТТЗ.
По решению Главнокомандующего ВВС Главного маршала авиации П.С.Кутахова и министра авиационной промышленности И.С. Силаева в октябре 1983 года состоялось совещание по выбору образца боевого винтокрыла для серийного производства.
В совещании приняли участие представители головных институтов ВВС и МАП,
а также специалисты МВЗ и УВЗ. С докладами выступили Генеральный конструктор М.Н. Тищенко и главный конструктор С.В. Михеев.
В ходе развернувшейся дискуссии начальник отделения ЦАГИ кандидат технических наук Е.С. Вождаев отметил, что Ка-50 превосходит Ми-28 по значениям статистического потолка и вертикальной скороподъемности. Заместитель начальника НИИ АС кандидат технических наук В.А.Стефанов обратил внимание присутствующих на несколько большую эффективность сверхзвуковых ПТУР у Ка-50 и подвижной пушечной установки — у Ми-28. Начальник 4-го управления ГНИКИ ВВС генерал-майор авиации А.С. Бежевец отдал предпочтение Ка-50 по летным данным и простоте техники пилотирования. Начальник 30-го ЦНИИ ВВС генерал-лейтенант авиации А.П.Молотков отметил более высокое значение интегрального критерия «эффективность–стоимость» у Ка-50.
Из представленных экспериментальных и расчетных материалов становилось очевидным, что вертолет Ка-50 имеет определенное преимущество перед Ми-28 и общее мнение военных может склониться в его пользу. В связи с этим Генеральный конструктор МВЗ М.Н. Тищенко предпринимает попытку спасти положение и реабилитировать Ми-28. Он утверждает, что один пилот на боевом вертолете по условиям безопасности не может на малых высотах, заданных ТТЗ, обнаружить, распознать цели и атаковать их с применением бортовых средств поражения. Об этом якобы свидетельствует опыт создания боевых вертолетов США с двумя членами экипажа, а также опыт применения Ми-24 в Афганистане. Военные допустят непоправимую ошибку, если выберут Ка-50. После такого заявления все взоры обратились к представителям ГНИКИ ВВС, в котором вертолет Ми-24 прошел многочисленные испытания, а летчики-испытатели которого к этому времени выполнили несколько полетов на Ми-28 и Ка-50. Г.И. Кузнецов сообщил участникам совещания о том, что лучше всего в Афганистане проявил себя вертолет Ми-24П, оснащенный пушкой ГШ-30К калибра 30 мм. Кстати сказать, именно Главнокомандующий ВВС П.С. Кутахов настоял на оборудовании боевого вертолета крупнокалиберной пушкой и всячески содействовал успешному завершению испытаний Ми-24П.
По оценке летчиков-испытателей и строевых летчиков, воюющих в Афганистане, на предельно малых высотах полета все функции по пилотированию, поиску и атаке наземных целей с применением пушки и НАР на вертолете Ми-24П осуществляет пилот. Второй член экипажа — оператор в передней кабине — ничем ему помочь не может и является, по существу, балластом, центровочным грузом. Управляемое противотанковое вооружение в Афганистане не применялось из-за отсутствия у противника бронетанковой техники.
Аэродинамически симметричный вертолет соосной схемы Ка-50, обладающий большей энерговооруженностью и отличающийся простой техникой пилотирования, позволяет использовать пушку и НАР эффективнее, чем на вертолете Ми-24 с рулевым винтом. Применение ПТУР «Атака» на Ми-28 практически не будет отличаться от применения ПТУР «Штурм» на вертолете Ми-24: оптические наблюдательные приборы имеют одинаковые поля зрения и кратности увеличения изображения цели, а ПТУР — одинаковые дальности пуска. Что касается применения ПТУР «Вихрь» с вертолета Ка-50, то специалисты института располагают достаточным объемом материалов, подтверждающих возможности реализации заявленных высот, скоростей и больших дальностей пуска.
Г.И. Кузнецова поддержал А.С. Бежевец. Он заявил, что ни у летчика-испытателя В.И. Костина, в совершенстве владеющего вертолетом Ми-24 и освоившего Ка-50, ни у него по этому вопросу сомнения не возникают. Его уверенность основывается на личном опыте испытаний микояновских самолетов-истребителей от МиГ-21 до МиГ-31 и суховских — от Су-7 до Су-27. «Почему фронтовые самолеты-истребители на высотах 20–30 м и скоростях полета около 1000 км/ч могут обнаруживать и поражать наземные цели, а вертолет Ка-50 не может это осуществить на скоростях до 300 км/ч? Да такого просто не может быть!»
По затронутой проблеме вновь попросил слова главный конструктор С.В.Михеев. Он сказал, что уважает своего конкурента и считает недопустимым со своей стороны критиковать Ми-28 в присутствии таких высококвалифицированных военных экспертов, так как они в состоянии сами разобраться, необходимо лишь предоставить им достоверные материалы. Михеев впервые публично озвучил сущность концепции создания одноместного ударного боевого вертолета Ка-50: «Не стоит доказывать, что один летчик работает лучше двух, не требуется доказывать недоказуемое. Но если один летчик на нашем вертолете справится с тем, что должны будут сделать два на вертолете-конкуренте, это будет победа».
В заключение С.В.Михеев обратился к П.С. Кутахову с предложением просмотреть на экране телевизора видеозапись низковысотного полета Ка-50. Полет с огибанием рельефа местности на экспериментальном вертолете Ка-50 на высотах
5–10 метров и скорости полета около 200 км/ч выполнил в Подмосковье шеф-пилот ОКБ заслуженный летчик-испытатель Е.И. Ларюшин. Видеорегистрация полета осуществлялась с борта соседнего вертолета, а видеокамера в кабине Ка-50 фиксировала действия пилота и выражение его лица. Продолжительность полета составляла около 40 минут, а видеорегистрация — около 25 минут: в начале, в середине и в конце полета. В полной тишине все внимательно следили, как на экране вертолет Ка-50 совершает полет сначала над лесом, едва не касаясь вершин деревьев, затем скользит вниз по кромке леса и стремительно несется над полем; вновь взмывает вверх перед очередной кромкой леса, находит лесную прогалину, делает энергичный плоский разворот и ныряет, имитируя скрытый выход на рубеж атаки. Изображение цветное. Видеозапись действий пилота наложена на вид летящего вертолета и синхронизирована по времени. Видно было, как летчик отклоняет рычаги управления машиной, поворачивает голову для обзора внекабинного пространства, контролирует показания приборов, выполняет имитацию прицеливания и атаки цели. При этом его лицо спокойно, особого напряжения не чувствуется.
После десятиминутного просмотра Главнокомандующий ВВС предложил дальнейшую демонстрацию видеозаписи прекратить. У него и до просмотра не было сомнений в возможностях нового боевого вертолета Ка-50, который ему, летчику-истребителю, участвовавшему в боевых действиях во время Великой Отечественной войны, явно импонировал. На этом П.С. Кутахов предложил совещание закончить.
В заключение Главком ВВС констатировал, что выбор вертолета Ка-50 для дальнейших испытаний и серийного производства состоялся.
Реализованные на экспериментальном боевом вертолете Ми-28 достижения МВЗ предлагалось использовать для создания новой модификации Ми-24.
Авторитет Главкома ВВС, члена ЦК КПСС, депутата Верховного Совета СССР П.С.Кутахова был настолько велик, что принятое решение считалось окончательным и дальнейшему обсуждению не подлежало. Однако неожиданная смерть П.С. Кутахова в ноябре 1984 года внесла серьезные коррективы в развитие дальнейших событий. Тем не менее решения Главного маршала авиации, под непосредственным руководством которого получили путевку в жизнь вооруженный Ми-8, все модифи-кации вертолета Ми-24 , тяжелый транспортно-десантный вертолет Ми-26, продолжали некоторое время действовать. 11 декабря 1984 года заключение НИИАС, ЦАГИ, ЦНИИ и ГНИКЙ ВВС о выборе вертолета Ка-50 для дальнейшей разработки все же было выдано.
Пытаясь ревизовать состояв-шееся решение, руководство МВЗ обратилось к новому Главноко-мандующему ВВС маршалу авиации А.Н. Ефимову и в МАП с жалобой на необъективность выбора боевого вертолета.
Генеральный конструктор М.Н. Тищенко продолжал утверждать, что один пилот на Ка-50 не может по условиям безопасности применять ПТУР на малых высотах полета. На этот раз у него неожиданно появился союзник в лице специалистов Института авиационной и космической медицины майора А.В. Чунтула и полковника В.В. Давыдова. По оценке последних, пилот Ка-50 на малых высотах полета не располагает достаточным резервом внимания для осуществления пилотирования машины, поиска и атаки целей с помощью ПТУР. Их совместная «массированная атака» привела к тому, что на высоком уровне было принято решение о продолжении сравнительных испытаний вертолетов Ми-28 и Ка-50 в полигонных условиях, максимально приближенных к боевым.
На Ка-50 испытания были проведены в период с 21 июня по 20 сентября 1984 года, а на Ми-28 — с 17 сентября 1984 по 19 апреля 1985 года.
В ходе этих испытаний подтвердились в основном заданные и подлежащие оценке летно-технические характеристики аппаратов. На завершающей стадии оформления актов испытаний руководители ОКБ М.Н. Тищенко и С.В.Михеев обратились к начальнику управления ГНИКИ ВВС А.С. Бежевцу с просьбой допустить к материалам испытаний вертолетов специалистов конкурирующих сторон в целях ознакомления. Военные испытатели дали согласие.
Группу аэродинамиков от УВЗ возглавил Э.А. Петросян, а от МВЗ — А.С. Браверман. Началось нечто невообразимое. Подвергались проверке практически все полученные материалы. Особенно усердствовали представители МВЗ, и в частности заместитель главного конструктора М.В. Вайнберг. Милевцы были шокированы тем, что вертолет
Ка-50 имеет такие высокие летные характеристики.
Наконец в актах испытаний по
Ка-50 и Ми-28 Михеевым и Тищенко были поставлены согласующие подписи. А в августе 1985 года эти акты были утверждены заместителем Главнокоман-дующего ВВС по вооружению.
Второй этап сравнительных испытаний винтокрылых штурмовиков был начат 18 сентября 1985 года, а завершен 15 сентября 1986 года
20 мая 1986 года в МАП состоялось очередное совещание с присутствием М.Н.Тищенко и С.В. Михеева. Вновь возникали дискуссии. Руководитель ОКБ Камова С.В. Михеев доложил о том, что по большинству параметров, летно-технических характеристик, в том числе подтвержденных в ходе сравнительных испытаний, вертолет Ка-50 превосходит своего американского конкурента АН-64А «Апач». На этом, однако, споры и интриги далеко не закончились. Мнения специалистов были не столь однозначны, однако группа испытателей утверждала, что только Ка-50 может соперничать с американским боевым вертолетом нового поколения АН-64А «Апач». В ее состав входили ведущие летчики-испытатели полковники В.И. Костин, А.С. Папай, подполковники помощник руководителя бригады А.Г. Бурлаков и ведущий инженер по вооружению В.А. Воробьев. Они ссылались на то, что лучшей в мире авиационной винтокрылой платформой для размещения высокоточного оружия является соосный вертолет Ка-50. Примерно по 50% летных данных и характеристик этот вертолет превосходит Ми-28, а по остальным 50% — ему не уступает. Что касается одного пилота, то он способен решать все боевые задачи, указанные в ТТЗ. Однако к пилоту должны предъявляться другие требования, подобные тем, какие предъявляются к летчикам-истребителям.
Особый накал научным спорам придавала периодически поставляемая МВЗ литература. ОКБ Миля развернуло самую настоящую информационную агрессию против вертолета Ка-50. Его аэродинамические особенности, которые также присущи и Ми-28, специалисты МВЗ сознательно превратили в вымышленные недостатки. При этом всячески превозносились достоинства
Ми-28. Как правило, достоверные сведения умело сочетались с псевдонаучным их трактованием, так что истину от вымысла способен был отличить только специалист узкого профиля. Из зарубежной полемики на тему, каким должен быть боевой вертолет нового поколения — одноместным или двухместным, выбирались высказывания только в пользу последнего. Все это под броскими заголовками оформлялось в виде брошюр, которые милевцы настойчиво распространяли среди испытателей, представителей НИИ и ответственных работников МАП и ВВС.
В поддержку одноместного боевого соосного вертолета после выполнения ознакомительных полетов на Ми-28 и
Ка-50 выступили летчики армейской авиации, в том числе имевшие опыт ведения боевых действий в Афганистане. В их числе были генерал-майор авиации Герой Советского Союза В.М.Письмен-ный, полковники Е.Н.Кашицын,
А.И. Новиков и другие. За винтокрылый штурмовик Ка-50 высказался также начальник НТК ВВС генерал-лейтенант авиации А.С.Клягин, который именно его считал перспективным боевым вертолетом.
Испытания экспериментальных вертолетов Ми-28 и Ка-50 в ВВС и МАП стояли на диспетчерском контроле.
За оставшиеся два месяца до срока окончания испытаний на обоих вертолетах предстояло определить точностные характеристики пушечного и неуправляемого ракетного оружия, а также завершить оценку управляемого противотанкового вооружения на Ка-50. Однако главное — это оценка возможностей Ми-28 и Ка-50 по обнаружению, распознаванию наземных целей и безопасному наведению на них ПТУР на малых высотах полета. Испытатели ГНИКИ ВВС обратились к руководителям ОКБ Миля и Камова с просьбой обеспечить работоспособность вертолетов, комплексов их оборудования и систем бортовых измерений. К заслугам С.В. Михеева следует отнести ту оперативность в принятии ответственных решений, которая характерна для маститых руководителей. В короткий срок были собраны лучшие специалисты ОКБ Камова и смежников, и десант под руководством главного конструктора высадился на полигоне в Смолино. Заслушали сообщения ведущих испытателей ГНИКИ ВВС, тут же наметили меры по реализации согласованных предложений. Заместителю главного конструктора
Н.Н. Емельянову поручили оставить нужных специалистов в Смолино и перейти на круглосуточную работу. Михеев срочно убыл в Люберцы, чтобы лично руководить доводкой вертолета. Работа закипела, а военные испытатели В.И. Костин, А.С. Папай, А.Г.Бурлаков и В.А. Воробьев наконец с облегчением вздохнули.
Испытания вертолетов Ка-50 и
Ми-28 были закончены 15 сентября 1986 года. На вертолете Ми-28 на втором этапе испытаний выполнено 36 зачетных полетов, 29 пусков ПТУР «Атака» и 16 пусков «Штурм»; на Ка-50 — 24 зачетных полета и 18 пусков ПТУР «Вихрь».
В октябре 1986 года головными институтами Минобороны (ГНИКИ,
30-м ЦНИИ, НИИ ЭРАТ, НИИ А и КМ) на основании расчетных и большого объема экспериментальных материалов (акты сравнительных испытаний) было выдано окончательное заключение о выборе боевого вертолета. Предпочтение вновь отдавалось Ка-50 из-за его превосходства в летно-технических, взлетно-посадочных и маневренных характеристиках, боевой живучести, эксплуатационной технологичности и эффективности вооружения.
Однако руководство МВЗ предприняло очередную попытку оспорить заключение институтов Министерства обороны, обвиняя военных в некомпетентности и необъективности. Предлагалось пересмотреть ранее согласованную методику сравнительной оценки боевой эффективности верто-летов-конкурентов, чтобы полнее учесть достоинства Ми-28. Жалоба была направлена министру обороны и в ЦК КПСС. В ход шли аргументы типа того, что за рубежом нет вертолетов соосной схемы, боевые вертолеты в США имеют экипаж из двух человек, как и на Ми-28, следовательно, боевой вертолет соосной схемы с одним пилотом не имеет права на существование. Министр обороны Маршал Советского Союза С.Л. Соколов вынужден был собрать совещание главнокомандующих ВВС и СВ, их заместителей по вооружению и представителя военного отдела ЦК КПСС. Министр принял решение заслушать доклад руководителя сравнительных государственных испытаний вертолетов Ка-50 и Ми-28.
В ходе дискуссии было задано большое число вопросов, на которые пришлось давать обстоятельные ответы. Министр обороны предложил присутствующим высказаться по предмету совещания. Все выступавшие отдали предпочтение боевому вертолету Ка-50 ОКБ Камова, несмотря на заявления представителей МВЗ, что в этом случае будет допущена роковая ошибка.
ОКБ Камова получило техническое задание в виде дополнения к ТТЗ на создание опытного образца винтокрылого штурмовика Ка-50. Требования к оборудованию и вооружению вертолета были расширены и повышены.
После выхода Постановления ЦК КПСС и СМ СССР ? 1420-355 от 14.12.87 г. о создании опытного образца Ка-50 были проведены необходимые доработки и заводские испытания вертолета, и в июне 1990 года его предъявили ВВС для проведения государственных испытаний. Госу-дарственные испытания завершились в декабре 1993 года с положительными результатами. На основании предвари-тельного заключения ГНИКИ ВВС (март 1990 г.) и Поручения ВПК ? 1624-90 г. в ОАО «Арсеньевская авиационная компания “Прогресс” имени Н.И.Сазыкина» в 1991 году началось серийное производство боевых ударных вертолетов Ка-50 «Черная акула». В 1995 году указом Президента вертолет Ка-50 принят на вооружение армии России.
Большой вклад в создание винтокрылого штурмовика внесли С.Н.Фомин, В.А. Касьяников, Л.К.Сверканов, М.А. Купфер, Н.Н.Емельянов, Е.В. Сударев, Ю.А.Лазаренко и др. Доводку и совершенствование машины продолжает главный конструктор Г.В. Якеменко. Всеми специалистами лично руководил главный, а затем Генеральный конструктор С.В. Михеев. За создание вертолета Ка-50 в 1996 году С.В.Михееву, Н.Н. Емельянову, Ю.А. Лазаренко и Г.В.Якеменко была присуждена Государ-ственная премия РФ. Государственными наградами отметили около 80 спе-циалистов фирмы. Среди них – Н.П.Бездетнов, Б.Н. Бурцев, А.Ю. Вагин, И.Б. Витухновский, А.З. Воронков, Г.М. Данилочкин, В.С. Дордан, В.И. Дорин, В.В. Колмаков, Г.И. Кузнецов, Э.А. Петросян, Е.В. Сударев и др. Трем военным летчикам присвоено высокое звание Героя Российской Федерации. Это генерал-майор Б.А. Воробьев, полковники А.И. Новиков и Н.В. Колпаков.
Писатель-фантаст Герберт Уэллс в конце XIX века так видел будущее авиации в военных конфликтах:
Фактором громадной важности в новой войне явится воздухоплавание. В войне, которая разыграется в новом веке, специально приспособленные военные шары найдут применение в сочетании с пушками, разумеется, малого калибра, но чрезвычайно дальнобойными. Эти пушки будут перевозиться моторами, колеса которых будут устроены, может быть, таким образом, что они будут в состоянии передвигаться по всякой почве. Снабженные подробными картами неприятельской страны, аэронавты будут точно отмечать пункты, на которые следует направить огонь батарей, и через горы и долы — на расстояние десяти английских миль полетят гранаты в места постоя, в сборные пункты неприятельских войск, в снаряжающуюся ночную экспедицию, в приближающуюся батарею...
...Задолго до 2000-го года, и даже, очень вероятно, раньше 1950-го года будет построен аэроплан, которым будет удачно разрешена задача передвижения в воздухе. ...Очень возможно, что к аппарату будет присоединен приводимый в движение каким-нибудь мотором винт. Летательная машина будет, вероятно, снабжена небольшим пулеметом или чем-нибудь вроде него и будет в состоянии посылать гранаты в воздушные шары неприятеля и осыпать пулями его аэронавтов. Это будет что-то вроде воздушной акулы...
О летчике-испытателе и друге Евгении Ларюшине*
Евгений Иванович родился 14 января 1934 года в деревне Кочема Егорьевского района Московской области. До 3-го класса учился в деревне Двойни, среднюю школу окончил в городе Егорьевске. С детства заикался. Понимая, что с таким дефектом осуществить свою юношескую мечту — стать летчиком — невозможно, разработал метод тренировки речи. Проявил необыкновенную силу воли и добился того, что строгая авиационная медицинская комиссия придраться ни к чему не смогла. Но у Жени на всю жизнь остались немногословие и заметная задержка речи в моменты волнений. Это отнюдь не помешало ему стать блестящим летчиком.
После окончания Омского военного летного училища и освоения фронтового бомбардировщика Ил-28 был направлен для продолжения службы в литовский город Шяуляй, где летал на всепогодном истребителе-перехватчике Як-25 в качестве летчика-оператора.
К 1960 году на фирме главного конструктора соосных вертолетов Николая Ильича Камова образовался дефицит летчиков-испытателей. Приближались испытания нового противолодочного вертолета Ка-25. Камов обратился в Школу летчиком-испытателей с заявкой на двух летчиков. После окончания этой школы Ларюшин оказался на фирме Камова. Отличная техника пилотирования, внутренняя собранность и глубокая теоретическая подготовка способствовали его органичному и быстрому вводу в строй. Освоив вертолеты Ка-15 и Ка-18, он принял от шеф-пилота ОКБ Д.К.Ефремова эстафету летных испытаний Ка-25.
Начавшиеся интенсивные испытания на «земной резонанс» и многочисленные в связи с этим изменения конструкции шасси и несущей системы привели в конечном счете к полному успеху.
У Ларюшина было много сложнейших полетных заданий. Это и исследования режимов полета с возникновением реального флаттера лопастей несущего винта
Ка-15 в воздухе, и оценка возможностей благополучного приземления с висения при отказе одного из двигателей Ка-25, и посадки ночью на палубу движущегося корабля при бортовой качке до 10°, и первый полет нового противолодочного тяжелого вертолета Ка-27, и многое другое.
Его авторитет, в том числе и летный, был чрезвычайно высок, особенно среди руководства ОКБ.
Мне поручили выполнить первый подъем боевого вертолета Ка-50, а 11 августа 1983 года Ларюшин поднял в воздух второй экземпляр этого вертолета, оснащенный боевым комплексом. Так и летали: я — на «единичке», продолжал заниматься доводкой и совершенствованием летных характеристик, а Женя — на «двойке», занимался еще и вопросами боевого применения, где способность вертолета энергично маневрировать имеет едва ли не превалирующее значение. Стараясь решить проблему очень ограниченной (как и для всех вертолетов в мире) и явно недостаточной для боевого вертолета скорости вертикального снижения, он, в принципе правильно, хотел подменить этот режим крутой энергичной спиралью и начал готовиться к испытаниям с появившейся у него последнее время некоторой скрытностью от товарищей.
В 1984 году медицинская комиссия отстранила меня от полетов. Когда возникла очередная необходимость демонстрации показательного пилотажа, на «единичку» был назначен Евгений. Требовались выбор безопасных фигур и предварительная пилотажная тренировка. Для рассмотрения полетного задания Генеральный конструктор Сергей Викторович Михеев вызвал к себе начальника летного испытательного комплекса Владимира Семеновича Дордана, Ларюшина и меня, как бывшего командира этого вертолета. Обсуждение в этот раз не было завершено, и Сергей Викторович назначил новое время встречи для его продолжения. А между тем Женя высказал неудовлетворенность тем, что на первое совещание был вызван и я («Сам, что ли, не разберусь!»). Разумеется, в последующей работе я больше участия не принимал, чтобы не влиять негативно на степень его личной готовности к выполнению предстоящего задания. Незадолго до описываемых событий в летной комнате Женя говорил о том, что в вертолетном деле теперь для него нет ничего неясного. Я стал объяснять нелепый смысл такого утверждения. Сказал, что это может стать причиной ослабления его профессиональной бдительности и, если он в этом на самом деле убежден, я буду вынужден обратиться к Генеральному. Поссорились. В общем-то, такого никогда между нами, друзьями, не было.
Что он делал, какие фигуры отрабатывал в своих тренировочных полетах, я узнал только из материалов аварийной комиссии. То же самое поразительное, безоглядное упорство в достижении поставленной цели и то же беспредельное доверие к специалистам, которые обеспечивали теоретическую подготовку его действий в воздухе. Герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель СССР Евгений Иванович Ларюшин погиб 3 апреля 1985 года при испытании первого экземпляра вертолета Ка-50.
Конструкторы, инженеры-испытатели, летчики-испытатели ОКБ совместно с военными испытателями проделали огромную работу по доводке вертолета Ка-50 и исследованию маневров и элементов боевого маневрирования. В руководстве по летной эксплуатации винтокрылого штурмовика в настоящее время достаточно боевых маневров для успешного применения разнообразного оружия как по наземным, так и по воздушным целям. В их числе горки, пикирования, виражи (развороты), змейки и спирали, боевой разворот, поворот и разворот на горке и т.д. В том, что Ка-50 все это успешно выполняет, немалая заслуга Евгения Ларюшина.
Чернобыльская эпопея*
26 апреля 1986 года произошел взрыв четвертого блока атомной электростанции в Чернобыле. Вскоре главный конструктор ОКБ Сергей Викторович Михеев был вызван в Министерство авиационной промышленности, где ему поручили обеспечить участие нового вертолета в ликвидации последствий чернобыльской аварии. Сергей Викторович возложил эту задачу на И.А. Эрлиха.
Подбор специалистов в «чернобыльскую» группу, состоящую из летающего и наземного обслуживающих экипажей, а также руководителя полетов и диспетчеров-помощников, Эрлих произвел сам. Это были люди из конструкторского бюро, летно-испытательного подразделения и Феодосийского филиала, который он создавал.
Вертолет Ка-27 (одна из серийных машин, на которой устанавливалась в то время в ОКБ специальная аппаратура) вместе с бригадой специалистов прибыл в район Чернобыля уже 8 мая. С этого момента бригада включилась в общие работы ликвидаторов.
Когда возникла экстренная ситуация с отказом военных летчиков по составлению карты распределения интенсивности излучения в зоне аварии и вокруг нее председатель Государственной комиссии, он же заместитель Председателя Совета Министров СССР И.С. Силаев и член комиссии академик Е.И. Велихов вновь обратились к С.В.Михееву, который поручил Игорю Александровичу специально для этой работы подготовить выделенный вертолет и выполнить задание комиссии.
Работы проводились с 30 мая по 12 июня. Затем последовали заказы на другие уникальные операции. 19 июня в один из свищей насыпи над реактором за 15 минут была введена так называемая «игла» с измерительной аппаратурой (18 м длиной, диаметром 100 мм). При этом экипаж вертолета в составе Н.И.Мельника (пилот), Ю.Н.Кувыкова, О.Азарова (бортоператоры), В.М.Ткаченко (штурман) получил облучение порядка 12 рентген. После этого была выполнена установка вокруг аварийного реактора аппаратуры для мониторинга интенсивности излучения (подвеска длиной 250 м).
И наконец, последняя работа вертолета в Чернобыле — опускание в жерло вентиляционной трубы аварийного блока гирлянды датчиков на внешней подвеске длиной 250 м. Эта операция потребовала обследования через трубу помещения, где была высокая интенсивность излучения. Игорь Александрович считал себя обязанным подвергнуться тем же неприятностям, на которые шли по его указанию подчиненные. Он вместе с Тимченко и Сафроновым участвовал в обследовании вентиляционной трубы снизу в четвертом блоке АЭС.
Пора было отвечать на вопрос «что делать дальше?», и это требовало тщательного анализа всей сложившейся ситуации. А предварительно следовало провести множество точных измерений и в районе вообще, и на реакторе в частности.
В то время предполагалось, что измерения на реакторе можно вести только с помощью вертолета, к которому на тросе длиной около 200 м подвешена специальная чувствительная аппаратура. Из справочников известно, что человек не должен получать более 3 рентген в год. И лишь для профессионалов, уходящих на пенсию в 55 лет (женщин на эту работу не берут вообще), цифра эта увеличивается до 5 рентген в год. Что же касается аварийных ситуаций, то во всех армиях мира существует норма суммарно 6,5 рентгена. По их получении человека немедленно списывают, считая, что в дальнейших боевых действиях он принимать участие не может. Здесь же, в Чернобыле, на высоте 200 метров речь шла о 1,5 рентгена в минуту! И это после того, когда все, что можно было засыпать, было засыпано.
Измерения, однако, было необходимо провести — другого пути не существовало. Над определенными точками станции должен был зависать вертолет — с аппаратурой на конце двухсотметрового кабель-троса, притом так, чтобы бочка с аппаратурой не раскачивалась. ВВС, проводившие в Чернобыле до этого все вертолетные работы, выполнить такую задачу отказались. И пришлось браться за нее команде И.А. Эрлиха.
Никто и никогда в мире не находился в столь сложном положении. (Здесь и далее курсив – комментарии ведущего конструктора Ю. Сафронова). Что происходит с ядерным топливом внутри раскаленного реактора? В каком оно состоянии? Возможен ли новый взрыв и выброс радиоактивности? Ответить на эти вопросы нужно было быстро и точно — не сделав ни единой ошибки. За выполнение этой необычной и, казалось, невыполнимой задачи взялся легендарный конструктор вертолетов, лауреат Ленинской и Государственной премий Игорь Александрович Эрлих. Он решил попытаться разместить с помощью вертолета измерительные приборы на открытой поверхности внутри разрушенного блока и, кроме того, донести другие приборы во внутреннюю часть взорвавшегося реактора.
Игорь Александрович предложил подвесить к вертолету Ка-27 на тросе длиной 200 м буй, начиненный радиационными и температурными датчиками. По прикрепленному к этому тросу электрокабелю сигналы датчиков должны были передаваться в кабину вертолета для записи.
И одновременно — с того же самого вертолета — должна была вестись в системе единого времени фото- и видеозапись буя на фоне местности для того, чтобы составить впоследствии карту ее радиационного загрязнения.
Предложения Игоря Александровича были приняты
10 мая 1986 года, и с этого дня начались под его руководством интенсивные тренировочные полеты.
Сначала требовалось сделать внешнюю подвеску длиной 200 м, и мы ее сделали и начали работать над системой стабилизации. Выглядело это очень любопытно. Выезжаешь с завода и видишь: где-то высоко летает как бы без видимой цели вертолет, а на самом деле он летает так, чтобы груз у него не раскачивался и постоянно находился на высоте 8 м от земли, потому что требовалось к тому же выдерживать расстояние в 8 м от измерительной бочки до поверхности измеряемого объекта.
Использовали мы для этой цели лазерный высотомер и видеозапись. Теперь я уже и представить себе не могу, как можно вести какие бы то ни было работы без видеозаписи. По крайней мере, в Чернобыле она нам очень пригодилась и одновременно многому нас научила. Это — великолепный инструмент, которым надо было еще уметь пользоваться.
Летчику нужно было пролететь на малой скорости с буем на двухсотметровой подвеске, выдерживая одно и то же расстояние от нижнего края буя до земли.
В конце полета он должен был поставить буй в очерченный на земле круг диаметром
1 м. Летчик контролировал свой полет по видеомонитору, размещенному в кабине пилота, и по команде оператора, наблюдавшего за поведением буя через люк в грузовой кабине вертолета. Для устойчивости буя в полете его затяжеляли до 500 кг, растягивая тем самым трос до 220 м. Впервые в мире совершались полеты на вертолете с внешней подвеской такой длины. А Игорь Александрович утверждал: «Если уровень радиации не позволит нам летать на высоте 200 м, то мы будем работать и на удалении от источника радиации 400 м». Откуда в нем была такая уверенность?
Практический опыт Игоря Александровича и его теорети-ческие изыскания позволяли ему быть уверенным в реализации своего плана в Чернобыле — удалить экипаж вертолета на расстояние более 200 м от источника радиации.
Отладив систему внешней подвески и систему стабилизации, мы приступили к выполнению работ. И тогда встал вопрос о летчиках — кого из них брать на эту работу. Пробовали всех, кого можно было забрать без ущерба для проведения остальных испытаний, — Л.И.Пантелея, В.А.Малышева, Н.Н.Мельника.
И получили неожиданные результаты.
Всякую работу каждый человек выполняет по-своему: одному она дается лучше, другому хуже. На голову выше остальных оказался в полетах над Чернобылем летчик-испытатель нашего Феодосийского филиала Николай Николаевич Мельник. А ведь по ряду объективных критериев именно его кандидатура считалась поначалу не особенно подходящей. Но как только он взлетел, то сразу стало ясно, что как раз он-то и работает лучше всех — вот вам и объективные критерии!
27 мая мы перебазировались в Чернобыль и уже 30 мая начали вести на Чернобыльской АЭС полный объем измерений. Между тем сама атомная станция — сооружение очень большое: в длину — 850, в ширину — 40 м, а по высоте — в среднем 15 этажей. Представьте себе здание, которое начинается у Большого театра и доходит до улицы Герцена, но это — одно здание, и только в длину, а в глубину уходит аж за Центральный телеграф, чуть-чуть не доходя до Моссовета. И вот такой в среднем 15–20-этажный параллелепипед — это и есть АЭС.
С 29 мая начались регулярные полеты по программе, разработанной Игорем Александровичем. С вертолета Ка-27 записывали уровень радиации на крыше машинного зала, на территории около четвертого блока и, опуская буй в развал разрушенного блока, записывали уровень радиации и температуру в самом блоке. Запомнился наш первый полет на станцию, в который Игорь Александрович взял ведущих специалистов нашей группы, назвав нас группой сопровождения. Ее задача — корректировка по радио полета вертолета Ка-27 и спасение его экипажа в случае вынужденной посадки или аварии.
Мы висим на вертолете Ми-8 прямо над взорвавшимся реактором — в 80 метрах от края разрушенного блока. Внизу, в глубине, среди обломков бетонных плит и покореженной металлической арматуры грозно чернеет многотонная крышка реактора «Елена», приподнятая и поставленная силою взрыва на ребро. Бортовой рентгенометр показывает 100 рентген. От этой цифры и от вида разрушенного реактора душа уходит в пятки, охватывает чувство ужаса. Остается только одна мысль — быстрей уйти от этого, бежать... Со временем мы, как все ликвидаторы, привыкнем к этой невидимой смертельной опасности...
Сфотографировав реактор, быстро уходим из зоны опасной радиации. Полет – разведывательный. С воздуха изучали подлежащие облету объекты: сам четвертый блок, площадку рядом с ним, крышу машинного зала — усеянные выброшенными из реактора осколками графита и ядерного топлива. Выбирали безопасные маршруты подлета к ним. Прошли в этом полете и над мертвым городом Припять.
В дальнейшем летали ежедневно: утром с 7 до 8 часов и вечером после 18 часов. Сам Игорь Александрович летал на Ми-8 с группой сопровождения, не пропуская ни одного полета.
Работа была закончена к 12 июня, и на основе полученных измерений была создана карта с проведенными на ней подробными изодозами (линии, похожие на изобары) — как для реактора, так и для ближайших районов атомной станции.
По ходу дела выяснилось, что есть еще множество всяких других проблем, которые тоже могут решить только камовцы под началом И.А. Эрлиха. А надо сказать, что вся получаемая информация всегда привлекала к себе исключительное внимание и немедленно изучалась и анализировалась всеми, кому это было положено, включая правительственную комиссию. Без этой информации невозможно было ни проектировать саркофаг, ни проводить вообще какие бы то ни было работы по дезактивации. В общем, группу оттуда не отпускали.
Следующая задача оказалась не менее сложной. В поверхности реактора — в этой насыпанной военными летчиками куче мраморной крошки, свинца, песка и всего прочего — обнаружились четыре свища размером 2 х 2 м. И видно было, что через них «садит» (как это там называлось) воздушный поток с огромным количеством радиоактивных частиц. Над этими свищами пришлось проводить измерения, что и было сделано. Но появилась еще одна идея: воткнуть в реактор 18-метровую «иглу» диаметром 100 мм, начиненную по высоте дозиметрическими датчиками. А также — температурными, поскольку никто не знал, какая температура внизу.
По предложению Игоря Александровича, стальной трубе длиной 18 м и диаметром 10 см придали вид иглы. Во внутренней полости трубы разместили датчики гамма-излучения, а на стенке — датчики температуры. Эту иглу на фале длиной 200 м подвесили к вертолету Ка-27. Кабель, по которому передавались сигналы от датчиков, прикрепили к тросу. Иглу необходимо было воткнуть в чрево реактора так, чтобы 10–12 м трубы вонзились внутрь, а остальные 6-8 м остались над поверхностью реактора. Это обеспечивало возможность измерять радиацию и температуру как внутри реактора, так и над его поверхностью. Трос с кабелем сбрасывали у входа в третий блок, где кабель подбирали и подсоединяли к записывающей аппаратуре.
19 июня летчики Николай Николаевич Мельник, Юрий Николаевич Кувыков вместе с Владимиром Михайловичем Ткаченко и Олегом Антоновичем Азаровым воткнули иглу в двухметровую дыру. Результат был совершенно фантастический, и наукой он был оценен очень высоко.
Предшествовали этой операции тренировки на аэродроме в Чернигове, и там ребятам удалось справиться с задачей гораздо быстрее, чем потом на реакторе.
В условиях же повышенной радиации (45-50 рентген) им пришлось работать в течение 40 минут. Правда, такой же уровень радиации был и на улице, а кабину вертолета мы выстлали свинцовыми пластинами. Но и при этом летчики схватили во время операции примерно по 12 рентген.
В июле 1986 года, во время краткого приезда в Москву, все прошли медицинское обследование. По выданной Игорю Александровичу справке суммарная активность радионуклидов в его организме превышала допустимую в 11 раз, а полученная им доза облучения — в 6,5 раза. И это притом, что истинные данные от нас в те времена скрывались, а в справках, если они выдавались, указывались заниженные цифры.
Мы шли через административный корпус, потом через первый и второй энергоблоки, а потом долго через машинный зал. И это все в полутьме. У Игоря Александровича были проблемы со зрением — он носил очки с толстыми стеклами, поэтому его всегда вел кто-нибудь за руку. В этот раз — наш водитель Володя Елецкий. Особо опасные зоны обходили.
Обгоняя нас, бежали дезактиваторы с брандспойтами — в брезентовых комбинезонах с капюшонами, в масках. А мы — в хлопчатобумажных спецовках, матерчатых беретах и марлевых респираторах. Со стен и потолка за воротник капала вода. Возвращались тем же маршрутом.
Изучив обстановку под трубой и на трубе (слетав к ней на вертолете), Игорь Александрович принял фантастическое решение: зависнуть на вертолете Ка-27 рядом с верхним краем трубы, вручную подобрать кабель-трос и, взлетая над трубой вертикально, вытянуть его вместе с гирляндой из трубы. Именно так В. Тимченко и Ю. Кувыков и проделали это на следующий день.
Игорь Александрович удивлял нас в Чернобыле не только идеями, но и уникальной энергией и неутомимостью. Вставали мы в
5 утра, а возвращались в гостиницу после
8 вечера. Ежедневно — утром и вечером — Игорь Александрович летал в составе группы сопровождения на четвертый блок. Днем его можно было встретить в штабе правительственной комиссии, на аэродроме (12 км от станции), на самой станции, в управлении строительства, на сварочно-монтажном участке. Встречался он с врачами и строителями, военными химиками и летчиками, дозиметристами и дезактиваторами, физиками и журналистами. Несколько раз выступал по украинскому радио и телевидению. Там, в Чернобыле, он закончил очерк об академике С. П. Королеве, который был опубликован в конце 1986 года, и начал писать другой очерк — о журналисте Анатолии Аграновском, опубликованный впоследствии в 1988 году.
И.А. Эрлих собирался написать о Чернобыле книгу. Одну из ее глав он хотел назвать так: «Хорошие реакторы не должны взрываться».
Всепогодный боевой вертолет Ка-52 «Аллигатор»*
Когда в 1995 году Ка-50 был принят на вооружение, в стране отсутствовала качественная тепловизионная аппаратура. Вертолет Ка-50 был запущен в серийное производство в дневном варианте. Однако ОКБ Камова считало своим долгом довести Ка-50 до уровня, обеспечивающего решение им боевых задач и ночью в полном объеме, предусмотренном ТТЗ. Построенная в 1997 году ночная модификация винтокрылого штурмовика получила кодовое обозначение Ка-50Ш. Его модернизированная обзорно-прицельная система обеспечивает возможность применения всех имеющихся на борту вертолета средств поражения днем и ночью. Первый полет Ка-50Ш 4 марта 1997 года выполнил летчик-испытатель О.Р. Кривошеин.
Приступая к формированию облика нового вертолета, специалисты фирмы прекрасно представляли, что круг боевых задач, для решения которых может быть использовано в будущем их детище, существенно шире изложенного в основном техническом задании. Опыт постройки вертолетов Ка-25, Ка-27 и Ка-29 для ВМФ подсказывал конструкторам, что к основным требованиям со временем прибавятся дополнительные. Это нормальная практика во взаимоотношениях заказчика и разработчика боевых комплексов, жизненный цикл которых составляет более 30 лет. Их создание требует огромных средств и длительного времени, в течение которого возможно появление новых модификаций. Если идти по пути проектирования универсального вертолета, то добиться его высокой эффективности при решении большого числа боевых задач практически невозможно. Строить несколько различных моделей вертолетов — долго и дорого. Поэтому при разработке базовой модели нового вертолета выбор конструктивно-компоновочной схемы планера, трансформируемой для последующих модификаций с минимальными затратами, представляется специалистам фирмы «Камов» принципиально важным. И такая схема планера была найдена.
Вертолет Ка-50 отличает уникальная конструкция планера. Он имеет аэродинамическую компоновку самолетного типа, несущую систему из двух соосных трехлопастных винтов с высоким коэффициентом полезного действия и убирающееся в полете шасси. Основу силовой схемы фюзеляжа составляет центральная балка коробчатого сечения. Снаружи эта балка закрыта несиловыми панелями, формирующими внешние аэродинамические обводы фюзеляжа и отсеки. В них и внутри центральной коробчатой балки размещены агрегаты систем и оборудование. Такая компоновка открывает широкую возможность для изменения конструкции носовой части фюзеляжа, отъемных консолей крыла и панелей, образующих внешние обводы фюзеляжа. Именно этой возможностью и воспользовалась фирма «Камов», создав в кратчайшие сроки и при минимальных затратах не только одноместный вертолет Ка-50, но и два варианта двухместных вертолетов — Ка-52 (кресла пилотов рядом) и Ка-50-2 (кресла пилотов расположены по схеме тандем). Первое висение опытного экземпляра Ка-52 (25 июля 1997 года) и первый полет по кругу (13 августа 1997 года) выполнил летчик-испытатель А.К. Смирнов.
Каждая модификация Ка-50 наилучшим образом адаптирована к условиям своего боевого применения. Так, одноместный вертолет наиболее эффективен при выполнении ударно-штурмовых операций и ведении воздушного боя. Его кабина имеет самую мощную броневую защиту среди всех известных вертолетов в мире. Этот аппарат имеет наименьшее из аппаратов семейства Ка-50/52 аэродинамическое сопротивление и наиболее высокие летные характеристики. Ка-50 — высокоманевренная боевая машина, предназначенная для применения в современном динамичном скоротечном бою, в котором вертолет и летчик должны быть единым организмом, чутко и мгновенно реагирующим на изменения боевой обстановки.
Ка-52 оснащен новым радиоэлектронным комплексом для пилотирования, навигации, решения боевых задач и применения средств поражения круглосуточно в любых погодных условиях. Все бортовое оборудование, системы планера, приборы и датчики скомпонованы по функциональному признаку в системные блоки, которые благодаря использованию пакета программ математического обеспечения обмениваются необходимой информацией между собой и выдают ее для решения задач на другом, более высоком уровне. Все управление комплексом сосредоточено у каждого пилота на рычаге общего шага, ручке управления вертолетом и многофункциональном пульте. Прицельная и пилотажная информация, требующаяся для атаки целей, выводится на многофункциональные индикаторы, расположенные в верхней части приборной доски, и нашлемные индикаторы.
Обзорно-поисковая система и система управления оружием вертолета Ка-52 создана на базе современных БЦВМ. Данные системы способны адаптироваться к быстрой модернизации арсенала средств поражения как при его увеличении за счет новых видов оружия, так и при исключении некоторых из них при необходимости. Всеми работами по бортовому комплексу руководит заместитель главного конструктора В.Ю. Субботин при активном участии заместителя Главного конструктора В.В. Зарытова.
Оснащение боевого вертолета катапультной системой для спасения экипажа в критической ситуации представляет собой еще одну из перспективных идей, реализованных специалистами фирмы «Камов» при создании семейства боевых вертолетов.
Таким образом, Ка-52 «Аллигатор» представляет собой многофункциональный всепогодный вертолет-штурмовик, боевой вертолет нового поколения. Он предназначен для решения широкого круга боевых задач днем и ночью, в простых и сложных погодных условиях, с применением всех средств поражения своего предшественника — базового вертолета Ка-50, а также ракетного оружия нового поколения. Кроме того, это командирская машина армейской авиации, призванная повысить эффективность групповых действий винтокрылых штурмовиков.
Специалисты фирмы «Камов» и смежных организаций продолжают работы по доводке вертолета Ка-52 «Аллигатор», его систем, оборудования и проведению различных видов лабораторных, стендовых, заводских наземных и летных испытаний бортового оборудования и в целом винтокрылого аппарата. На опытном экземпляре Ка-52 ? 01 в 2003 году с положительными результатами завершен первый этап государственных испытаний по оценке летно-технических характеристик машины. Все достигнутые летно-технические данные соответствуют требованиям тактико-технического задания (ТТЗ) Министерства обороны России.
В период с 1998 по 2000 год вертолет Ка-50-2 «Эрдоган», представляющий модификацию Ка-50 «Черная акула» и Ка-52, участвовал в турецком тендере по выбору боевого вертолета для министерства обороны этой страны. Ка-50-2 предназначен для решения широкого круга боевых задач днем и ночью в простых и сложных погодных условиях. Основное внешнее отличие от своих предшественников заключается в носовой части фюзеляжа и двухместной кабине экипажа с тандемным размещением двух пилотов. Бортовой комплекс оборудования и вооружения соответствует стандартам НАТО.
Летные и боевые характеристики этого ударного боевого вертолета для турецкой стороны были в полном объеме ее требований продемонстрированы на базовых Ка-50 и Ка-52 в условиях высокогорья и больших температур воздуха, Пилоты фирмы «Камов» и Центра боевого применения армейской авиации России подтвердили заявленные мощь и высокие точностные характеристики стрельбы из пушки, пусков противотанковых управляемых сверхзвуковых ракет и неуправляемых авиационных ракет калибра 80 мм.
В высокой тяговооруженности соосного Ка-50-2, его уникальных маневренных возможностях и простой технике пилотирования турецкие летчики смогли лично убедиться, пилотируя вертолет Ка-52 в жестких условиях высокогорья своей страны. Фирма «Камов» совместно с российскими специалистами–разработчиками оборудования и вооружения смогли представить убедительные доказательства эффективности бортового радиоэлектронного комплекса, авионики, информационно-управляющего поля кабин пилотов вертолета Ка-50-2 «Эрдоган».
По критерию «эффективность-стоимость» Ка-50-2 на завершающем этапе тендера превзошел в очной конкурентной борьбе такие известные зарубежные боевые вертолеты, как «Мангуста» (Италия), «Тигр» (Франция, Германия) и «Апач» (США). Окончательный выбор между занявшими первые два места в конкурсе AH-IZ «Кинг-Кобра» (фирма «Белл-текстрон”, США) и Ка-50-2 «Эрдоган» (фирма «Камов») до настоящего времени пока не реализован. Идет согласование между сторонами.
Участие фирмы «Камов» в турецком тендере позволило ее специалистам совместно со специалистами смежных предприятий и Министерства обороны России более тщательно отнестись к окончательному формированию бортового комплекса «Аргумент-2000» пятого поколения для вертолета Ка-52 с учетом приобретенного опыта. Принципиально от своих предшественников он отличается открытой архитектурой построения и является базовым комплексом для семейства винтокрылых машин с эмблемой «Ка» различною назначения.
К числу унифицированных составных частей комплекса относятся , в частности, бортовая цифровая вычислительная машина «Багет-53”; пилотажно-навигационный комплекс (ПНК-37ДМ); обзорно-пилотажная система ТОЭС-520; «бортовой комплекс связи БКС-50; система сбора параметрической информации «Экран-30”; комплекс обороны и другие.
Головным разработчиком комплекса бортового оборудования для Ка-52 является Раменское ОКБ. Составные части комплекса находятся на различных стадиях отработки, доводки и испытаний. К примеру, ПНК-37ДМ в полном объеме прошел наземные и летные испытания в составе бортового радиотехнического комплекса вертолета радиолокационного дозора Ка-31. Завершено формирование информационно-управляющего поля кабины экипажа, осуществляется его оценка с привлечением специалистов Министерства обороны. Вся необходимая информация пилотам в кабине выводится на многофункциональные цветные индикаторы и нашлемные индикаторы летчиков. Управление бортовым оборудованием у каждого пилота сосредоточено на многофункциональном пульте и на рукоятках рычагов управления вертолетом.
Пилотирование Ка-52 днем и ночью летчики осуществляют с использованием обзорно-поисковой системы (ОПС). Ее основу составляют турельная оптико-электронная система ТОЭС-520. Пилоты могут круглосуточно осуществлять в полете обзор местности, обнаруживать препятствия и ориентиры, производить посадки на необорудованные и неосвященные площадки. Для выполнения низковысотного полета в сложных погодных условиях совместно с ТОЭС используется радиолокационный канал комплекса «Арбалет-52» (разработчик ОАО «Корпорация “Фазатрон-НИИР”»). Управление головкой ТОЭС производится автоматически от сигналов датчиков позиционирования, отслеживающих положение шлема пилота.
Поиск и атаку цели пилот (оператор) производит с использованием поисково-прицельной системы (ППС). ППС включает многоканальную систему круглосуточного действия ГОЭС-451. Для обнаружения целей в сложных погодных условиях ГОЭС сопряжена с каналом радиолокационного комплекса «Арбалет 52», антенна которого расположена в носовом обтекателе кабины экипажа. Изображение цели и окружающей местности индицируется на многофункциональных цветных дисплеях на приборной доске и дублируется на нашлемном микродисплее НСЦИ. Дальность обнаружения наземной цели типа танк составляет; по ТВ каналу -10 км; по ТПВ каналу – 5 км; по каналу РЛС- 15 км.
На боевых отечественных и зарубежных вертолетах под размещение пассивных обзорно-поисковых систем для пилотирования машин и поисково-прицельных систем для применения средств поражения круглосуточно используется носовая часть фюзеляжа.
Фирма «Камов» на всепогодном вертолете Ка-52 пассивные системы (телевизионные и тепловизионные) разместила в двух шаровых обтекателях под и над кабиной экипажа, освободив носовую часть фюзеляжа под установку антенны РЛС с большой апертурой.
Исследования, проведенные фирмами «Фазатрон-НИИР» и «Камов» показали, что при носовом размещении антенны РЛС, с вдвое большей апертурой, чем у существующих аналогов, дальность поиска цели типа танк почти утраивается по сравнению с ее надвтулочным вариантом.
В связи с этим комплекс «Арбалст-52» представляет собой РЛС с двумя каналами, каждый из которых свой круг задач решает с высокой эффективностью» Канал РЛС с носовой антенной служит для поиска и атаки целей, а также для осуществления низковысотного полета в сложных погодных условиях. Другой канал РЛС, с надвтулочным расположением антенны, предназначен для решения задач кругового обзора в интересах противоракетной обороны вертолета общего контроля обстановки вокруг него.
Открытая архитектура комплекса «Аргумент-2000» вертолета Ка-52, базирующегося на интегрированной вычислительной системе высокого быстродействия и большого объема памяти, использующего мультиплексные тестированные каналы обмена информацией и программно-математическое обновляемое обеспечение, позволяет успешно применять различные виды стрелково-пушечного, ракетного управляемого и неуправляемого вооружения.
На Ка-52 успешно адаптированы высокоточные и дальнобойные противотанковая сверхзвуковая ракета «Вихрь» и пушка 2А.42 калибра 30 мм, хорошо зарекомендовавшие себя на вертолете Ка-50, также НАР калибра 80 мм и УР «воздух-воздух».
От Ка-26 до Ка-226*
Рождение вертолета Ка-26, который совершил свой первый полет в 1965 году, ознаменовало собой появление первого винтокрылого аппарата в нашей стране, разработанного только для гражданской авиации. До этого все вертолеты создавались для военной авиации, а уж потом приспосабливались для гражданских целей. Опыт удался, машина получилась! Было построено свыше 800 вертолетов, которые успешно эксплуатировались в различных странах мира. Летают они и в настоящее время.
Большая популярность вертолета Ка-26, и особенно его сельскохозяйственной модификации, уже в начале 1970-х годов породила идею его дальнейшего совершенствования. При всех своих многочисленных достоинствах вертолет Ка-26 имеет один существенный недостаток — поршневые двигатели.
Идея модернизации вертолета Ка-26 лежала на поверхности: предстояло заменить поршневые двигатели М-14В26 газотурбинными. Это позволяло резко поднять весовую отдачу вертолета, его грузоподъемность и транспортную производительность, расширить географию применения, использовать обычное авиационное топливо — керосин. При этом, как показал опыт, удалось сохранить и даже улучшить показатели топливной эффективности. В марте 1975 года был представлен эскизный проект первой модернизации Ка-26 — вертолета Ка-26М с двумя газотурбинными двигателями ГТД-11 главного конструктора В.А. Глушенкова. Разработкой вертолета Ка-26М руководил заместитель главного конструктора С.Н. Фомин.
Вертолет Ка-26М удовлетворял Нормам летной годности гражданских вертолетов СССР для машин категории II и с некоторыми ограничениями для машин категории I.
На Калужском моторном заводе развернулись работы по созданию двигателя ГТД-11 с хорошими удельными характеристиками, соответствовавшими мировому уровню. Построили первые опытные образцы газогенераторов для стендовых испытаний. Но внезапно обстоятельства круто изменились. Калужский моторный завод определили под массовое производство танковых газотурбинных двигателей, все работы по ГТД-11 полностью остановили. Это был первый удар по совершенствованию вертолета Ка-26.
Такое крайне недальновидное решение руководства Министерства авиационной промышленности СССР на многие десятилетия похоронило не только перспективу создания нового двигателя и нового легкого вертолета, но и одно из направлений отечественного двигателе-строения — создание маломощных, очень нужных стране газотурбинных двигателей.
Отсутствие альтернативы двигателю ГТД-11 не позволило продолжить создание вертолета Ка-26М. Тема исчезла, но желание модернизировать вертолет
Ка-26 осталось.
Руководство фирмы понимало, что без надежного заказа от Аэрофлота трудно будет развивать ОКБ. Потребность ВМФ в корабельных вертолетах весьма ограничена и четко зависит от количества судов, способных принять вертолеты.
А таких на флоте около 200. Кроме того, флот требовал специальные варианты базового аппарата, что загружало ОКБ невертолетными работами и не оставляло практически времени и сил на проектирование новых машин. Ведь некоторые варианты основной модели для флота строились в количестве 2–4 экземпляров. Такое «штучное» проектирование делало ОКБ уязвимым, когда критики и недоброжелатели не упускали случая объявить устно или письменно, какой небольшой процент в стране составляют камовские вертолеты.
1975 год. Руководитель фирмы С.В.Михеев решил атаковать МГА с другого фланга, предложив модификацию Ка-26.
В начале 1980-х годов фирма «Камов» вышла с новым предложением модификации вертолета Ка-26. Оно появилось на базе решения правительства о создании легкого вертолета и его серийном производстве в Румынии. При этом предусматривались поставки в СССР в количестве до 2000 машин. Работа в соответствии с межправительственным соглашением началась в 1982 году. Новый вертолет получил наименование Ка-126.
В марте 1984 года было подписано межправительственное соглашение о серийном производстве вертолетов Ка-126 в Румынии и поставках их в СССР. В марте 1985 года было утверждено техническое задание (ТЗ) на вертолет Ка-126 с одним газотурбинным двигателем ТВО-100 главного конструктора О.Н. Фаворского. Разрабатывать двигатель ТВО-100 планировалось одновременно с конструированием вертолета Ка-126.
В апреле 1985 года главный конструктор С.В. Михеев подписал эскизный проект вертолета Ка-126. Руководить разработкой вертолета Ка-126 и освоением его серийного производства в Румынии поручалось Евгению Глебовичу Паку. Вертолет Ка-126 с одним газотурбинным двигателем ТВО-100 создавался также на базе вертолета Ка-26, но это была его глубокая модернизация. Ка-126 унаследовал все положительные качества Ка-26: многоцелевое применение, минимальные габариты, простоту управления, хорошую маневренность.
Создание вертолета Ка-126 и его внедрение в серийное производство в Румынии велись одновременно. В Румынии осваивалось полное производство вертолета, двигателя и редуктора. Заводы–разработчики вертолета, двигателя и редуктора поставляли туда материалы и готовые изделия для его тиражирования. К выпуску вертолетов готовились в городе Брашове, двигателей — в Бухаресте и главных редукторов — в городе Бакэу. По утвержденной программе построили опытные образцы Ка-126, на которых проводились сертификационные испытания в соответствии с требованиями Норм летной годности НЛГВ-126, специально разработанных для этого вертолета. В НЛГВ-126 имелись количественные критерии оценки уровней надежности и безопасности полетов, которые в дальнейшем стали основой для создания Норм летной годности вертолетов НЛГВ-2.
Первый вылет вертолета Ка-126 состоялся 19 октября 1987 года на аэродроме в Люберцах, а уже 27 декабря того же года был выполнен полет первого серийного вертолета румынского производства на заводском аэродроме Брашова. В Румынии построили 12 вертолетов, освоили производство главных редукторов и построили двигатель ТВО-100.
С советской стороны работу по межправительственному соглашению с Румынией курировал заместитель министра авиационной промышленности СССР А.В. Болбот, роль которого в освоении в Румынии вертолета Ка-126, двигателя ТВО-100 и главного редуктора трудно переоценить. Ему приходилось не только решать технические и организационные проблемы, но и преодолевать негативный настрой многих чиновников от авиации. Однако удары судьбы не миновали и эту модификацию вертолета. Начиналась перестройка в СССР, произошла смена режима в Румынии. С этим прервалась работа заводов по программе выпуска вертолетов Ка-126. В СССР прекратилось финансирование программ вертолета Ка-126 и двигателя ТВО-100, так необходимых стране. Огромные средства, затраченные на выполнение этих программ, фактически были выброшены на ветер. Вновь не увенчалась успехом попытка создать новый отечественный вертолет легкого класса.
В процессе разработки Ка-126 появилась идея создать на его базе двухдвигательный вертолет Ка-226. Однако ее реализация сдерживалась из-за отсутствия подходящего отечественного двигателя. С началом перестройки приняли решение использовать зарубежный двигатель. Выбор пал на американский двигатель «Аллисон» 250-С20В мощностью 420 л.с., не самый новый, но самый отработанный и распространенный в мире. Впоследствии двигатель фирмы «Аллисон» модификации «В» заменили на двигатель модификации «К» мощностью 450 л.с. и с несколько лучшими удельными расходами. Генеральный конструктор С.В. Михеев договорился с фирмой «Аллисон» о применении зарубежного двигателя на вертолете фирмы «Камов». В то время это было беспрецедентное соглашение. Государственный департамент США выдал специальное разрешение на поставку двигателей 250-С20В в Россию. Вертолет Ка-226, как и его предшественник Ка-126, был включен в государственную программу развития гражданской авиации до 2000 года.
Шел 1991 год. Не лучшие времена в новейшей истории России. Министерство авиационной промышленности, которое буквально разваливалось, как карточный домик, не могло обеспечить реализацию даже тех программ, для которых предусматривалось бюджетное финансирование. Для осуществления проекта следовало решить один вопрос — найти средства. Это были многолетние, мучительные поиски. В результате С.В. Михеев получил грант от правительства США на 500 тысяч долларов для исследований возможности использования на вертолете Ка-226 американских двигателей и оборудования. К сожалению, не нашлось инвесторов для реализации всей программы. Но и в условиях полного отсутствия средств шло проектирование вертолета. Почему же фирма «Камов» проявляла такую настойчивость?
В вертолетном парке России наблюдался «перекос» в сторону тяжелых машин, что особенно остро ощущается и в настоящее время. России нужны легкие, дешевые, экономичные вертолеты, которые могут выполнять 70–80% авиационных перевозок грузов. Именно эту задачу решает программа постройки вертолета Ка-226.
Особенностью Ка-226, впрочем как и Ка-126, является модульность его конструкции. Грузоподъемность машины позволяет устанавливать на нее практически все виды съемного оборудования для вариантов различного целевого назначения, а также пилотажно-навигационное и радиосвязное оборудование, обеспечивающее полеты в любое время суток и в сложных метеоусловиях. Вертолет может быть оснащен лыжами и баллонетами, то есть способен совершать посадку на песок, снег, водную поверхность. Замена съемного оборудования производится в аэродромных условиях силами обслуживающего персонала. Конструкция планера вертолета даст возможность переоборудовать его из одного варианта применения в другой с сохранением эксплуатационной центровки в допустимых пределах без дополнительных проверок.
Все эти качества обеспечивают вертолету Ка-226 высокую эффективность использования при любых видах работ. В их числе оказание экстренной медицинской помощи, высадка пожарного десанта или спасателей (с парашютом или с устройством быстрого спуска), подъем пострадавших или спасателей (в том числе с водной поверхности), проведение специальных работ в химически загрязненных зонах, разведка и сбор специальной информации, патрулирование, сельскохозяйственные работы.
Это хорошо понимают руководители Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) России, делая основную ставку на отечественные легкие вертолеты.
В 1995 году между МЧС и фирмой «Камов» были подписаны соглашения о производстве Ка-226 в городе Оренбурге. МЧС взяло на себя финансирование разработки не только аварийно-спасательного вертолета Ка-226А, но и базовой, транспортной модели вертолета. В феврале 1998 года заключено генеральное соглашение между МЧС, правительством Москвы и фирмой «Камов» о 100-процентном финансировании программы создания вертолета Ка-226.
После смерти Е.Г. Пака работы по Ка-226 возглавил заместитель Главного конструктора, а затем Главный конструктор Леонид Павлович Ширяев.
4 сентября 1997 года на летно-испытательном комплексе фирмы «Камов» экипаж в составе летчика-испытателя В.А.Лаврова и бортмеханика А.В.Князева совершил первый показательный полет на новом вертолете Ка-226. В последующие годы фирма «Камов» продолжила доводку и совершенствование вертолета Ка-226: завершен этап доводки и сертификационных испытаний базовой модели (сентябрь 2003 г.). Получен сертификат типа (категория В) в октябре 2003 года. Начато серийное производство Ка-226 (2003).
Сертификация вертолета велась под руководством заместителя Главного конструктора Ш.А. Сулейманова, который прошел хорошую школу, принимая активное участие в сертификации Ка-32 в России и за рубежом – в Канаде, Швейцарии, Испании.
В процессе сертификации выполнено более 20 ОКР по вновь разработанным агрегатам и модификациям, привлечено более 70 предприятий поставщиков основных комплектующих, заключено более 120 договоров, построено 27 стендов для проведения испытаний, выполнено 524 испытательных полета, в том числе по отказным ситуациям и предельным режимам.
Идя навстречу пожеланиям Заказчиков, в 2004 году фирма «Камов» провела дополнительные работы и испытания по подтверждению соответствия вертолета требованиям к летным данным категории А. Эти работы были завершены с положительным результатом и 10 августа 2004 года Авиарегистр МАК выдал соответствующее Дополнение к сертификату типа. Тем самым подведен важный итог в программе создания вертолета Ка-226, подтверждающий возможность и безопасность его использования в различных условиях, включая полеты над крупным мегаполисом.
По состоянию на конец 2004 года построено 4 серийных экземпляра на авиазаводах Кум АПП (г. Кумертау) и ПО «Стрела» (г. Оренбург).
Нынешний Ка-226 существенно отличается от своего предшественника с тем же номером. Это — вертолет нового поколения, отвечающий требованиям как отечественного, так и зарубежного рынков.
Основополагающим принципом создания вертолета с самого начала его проектирования является безопасность выполнения полета. Ка-226 с двумя двигателями фирмы «Роллс-Ройс» мощностью по 465 л.с. каждый и с комплексом современного бортового оборудования соответствует национальным и международным нормам, обеспечивает продолжение полета при отказе одного из двигателей.
У него новая конструкция винтов с полужестким креплением лопастей, изготовленных из полимерных композиционных материалов (ПКМ). Это значительно повысило коэффициент полезного действия несущей системы и эквивалентного аэродинамического качества винтокрылого аппарата. Именно здесь пригодились фундаментальные работы фирмы «Камов» по созданию лопастей несущего винта из ПКМ для армейских вертолетов Ка-50 и Ка-60.
Лопасти несущего винта Ка-226 из современных ПКМ обладают рядом только им присущих качеств. В их числе возможность использования любой аэродинамически целесообразной компоновки с высокоэффективными профилями ЦАРИ. Это весьма ценное качество фирма «Камов» планирует использовать для создания последующих модификаций вертолета. Кроме того лопасти из ПКМ обладают повышенной живучестью, хорошей ремонтопригодностью, атмосферостойкостью, простотой и экономичностью в изготовлении.
Достижению высокого коэффициента полезного действия винтов способствует двухконтурный лонжерон, обеспечивающий стабильность геометрических параметpов лопасти, и исключительно гладкая поверхность лопасти.
Применение торсионных втулок несущего винта существенно упростило конструкцию несущей системы машины. По сравнению с втулками шарнирного крепления лопастей на
Ка-26 на новых втулках Ка-226 количество деталей уменьшено более чем в три раза. Отсутствие осевого, вертикального и горизонтального шарниров крепления лопастей винта к втулке подшипникового типа избавило наземный обслуживающий персонал от неблагодарной «грязной» работы по периодическому пополнению смазки шарниров и ежедневному устранению потеков, смешанных с пылью. Этому в не меньшей степени способствует использование в системах управления металлофторопластовых подшипников, не требующих смазки.
С переходом от шарнирного к полужесткому торсионному креплению лопастей несущего винта вертолет стал более послушен пилоту в управлении, его маневренные качества повысились. В сочетании с простой техникой пилотирования Ка-226 становится наиболее востребован в случае выполнения спасательных операций, а также при обучении и тренировке курсантов летных училищ. Летчики, прошедшие курс обучения на Ка-226, дали высокую оценку пилотажным качествам вертолета.
Соосные винтокрылые машины по технике пилотирования сопоставимы с самолетами первоначального обучения. Ка-226 — это по сути «летающая парта» для обучения молодежи в системе подготовки пилотов в Российской оборонно-спортивной организации.
Сама природа соосной схемы несущих винтов обеспечила Ка-226 пониженный уровень вибраций и более приемлемый уровень комфорта пилотам и пассажирам. Это достигается за счет суммирования колебаний верхнего и нижнего винтов таким образом, что максимумы амплитуд вибраций одного из них с некоторым сдвигом по фазе совпадают с минимумами другого. По результатам испытаний Авиарегистр МАК выдал сертификат типа СШ-140 – Ка-226, свидетельствующий о низком уровне (на 11 децибел ниже нормы) шума, создаваемого вертолетом на местности. Это весьма важный фактор для винтокрылой машины гражданского назначения при ее эксплуатации в непосредственной близости к населенным пунктам и выполнении полетов над ними.
Большим преимуществом Ка-226 является низкий расход топлива. При выполнении работ по мониторингу вертолет может находиться в воздухе 4,5 часа.
В интересах эксплуатантов разработаны наиболее востребованные варианты вертолета: пассажирский, транспортный, аварийно-спасательный, санитарный, патрульный, пожарный, с установкой оборудования для производственно-экологического мониторинга объектов и контроля магистральных трубопроводов, аэрофотосъемки, учебный.
Для различных вариантов применения Ка-226 предусмотрен широкий набор дополнительного и специального оборудования, которое эксплуатант вправе выбирать для целевого решения своих задач. Оно включает: транспортную кабину на
8 человек, внешнюю грузовую подвеску на 1300 кг, бортовую лебедку, внешний багажно-грузовой контейнер, громкоговорящую звуковещательную установку, авиационный прожектор с дистанционным управлением, гиростабилизированную круглосу-точную оптико-электронную систему, метеопоисковый локатор, комплект медицинского оборудования, санитар-ные носилки, комплект аварийно-спасательного инструмента, средства спасения людей с водной поверхности, подвесную транспортно-спасательную кабину на 2–3 человека и др.
По желанию заказчика в состав базового бортового оборудования может быть включено и другое, самое современное пилотажно-навигационное оборудование. В экспортном варианте Ка-226 оснащается бортовым оборудованием и авионикой зарубежных компаний в соответствии с требованиями инозаказчика.
В настоящее время специалистами фирмы «Камов» разработан ряд наиболее востребованных вариантов применения вертолетов. Для МЧС – аварийно-спасательный, медицинский; для авиаотряда г. Москвы -скорой медицинской помощи, патрульный; для «Газпрома» – Ка-226АГ с бортовым комплексом оборудования, соответствующим ТТЗ этой организации. По контракту «Газпромавиа» до конца 2007 года получит 22 вертолета этого типа. Сначала они будут использоваться в умеренных широтах, а по мере накопления опыта начнется их «продвижение» в районы Приполярья и на Крайний Север. Известно, что фирма «Камов» обладает уникальными технологиями по созданию винтокрылов корабельного (морского) базирования, что очень пригодится при разработке модификации для обслуживания буровых платформ на прибрежном шельфе.
В инициативном порядке построен вариант вертолета Ка-226Т с двигателями французской фирмы «Turbomeca» ARRIUS 2G2 с взлетной мощностью 2x670 л.с. для применения в условиях высокогорья и больших температур наружного воздуха. Данный вариант машины отличается повышенными значениями статического и динамического потолков полета, которые составляют соответственно 6000 м и 7500 м. Ка-226Т предлагается в качестве разведывательно-патрульного вертолета для Министерства обороны и других силовых ведомств.
25 июля 2005 года летчик-испытатель I класса Лебедев Виталий Викторович и бортмеханик-испытатель Князев Александр Васильевич на вертолете Ка-226Т с двигателями Ариус 2G-2Р («Турбомека», Франция) поднялись на высоту 7030 метров. Но наиболее важным достижением было выполнение висения на высоте 6000 метров над уровнем моря. Этот факт говорит о больших потенциальных возможностях нового вертолета фирмы Камов.
Вертолет Ка-226 и большинство его агрегатов будут эксплуатироваться по техническому состоянию без плановых капитальных ремонтов. При этом назначенный ресурс машины составляет 18 тысяч летных часов, а календарный срок службы – 25 лет. Послепродажное обслуживание вертолета отвечает мировым стандартам.
Беспилотные вертолеты*
Идея создания беспилотного вертолета в ОКБ Камова возникла в начале 1960-х годов, когда по заданию заказчика рассматривалась возможность создания корабельного беспилотного вертолета. В рамках НИР подобные исследования велись в интересах и других родов войск. В 1970 году институты Министерства обороны выполнили научно-исследовательскую работу «Изыскание технических путей создания комплекса на базе беспилотного вертолета», а ОКБ подготовило эскизный проект. Успешное применение беспилотных самолетов в войне Израиля с Египтом в 1973 году подтвердило актуальность темы.
Применение беспилотных вертолетов обеспечивает в разведывательных комплексах ряд серьезных преимуществ, в том числе существенное сокращение размеров взлетно-посадочной полосы; отказ от громоздкого стартово-посадочного оборудования (что значительно расширяет возможности использования комплекса в горной и пересеченной местности); возможность работы в режиме висения или на небольших скоростях полета (порядка 40–60 км/ч); уменьшение ударных нагрузок на оборудование; сокращение продолжительности подготовки к повторному заданию. Все это в совокупности значительно удешевляет эксплуатацию и повышает эффективность комплекса. Именно по этой причине в последние годы резко возрос интерес к применению беспилотных вертолетов в целях разведки. Ведущие авиационные конструкторские бюро Англии, Германии, Канады, США, Франции построили ряд беспилотных вертолетов, предназначенных для решения широкого круга задач, в основном военного назначения.
Шел 1976 год. Минавиапром выдает ОКБ Камова техническое задание: разработать техническое предложение на беспилотный вертолет ВЛ-76. Основными исполнителями работы стали И.А. Эрлих, А.Н. Наумов, В.А. Касьяников, Н.Н.Емельянов, Э.А. Петросян, Г.И. Иоффе, А.А. Дмитриев, Ю.С. Брагинский, И.И. Иванов, В.Г. Крыгин, В.П. Янин.
Вертолет соосной схемы с несущим винтом диаметром 4,8 м при взлетной массе 250 кг мог поднимать полезную нагрузку 40 кг. Главной проблемой в создании беспилотного вертолета стало традиционное отсутствие в стране малоразмерного двигателя.
Попытки Воронежского ОКБМ создать роторно-поршневой двигатель мощностью 50 л.с. не дали должных результатов.
В 1984 году на основании проведенных работ камовцы подготовили проект постановления правительства по созданию комплекса, включающего беспилотный вертолет с полезной нагрузкой 50 кг.
Министр авиационной промышленности Иван Степанович Силаев в декабре 1985 года обратился в Государственную комиссию по военно-промышленным вопросам с предложением обязать соисполнителей включиться в разработку аппаратуры комплекса. Министерство обороны настаивало на ускорении работ. В октябре 1986 года руководство страны решает поручить ОКБ как головному предприятию организовать создание беспилотного вертолетного комплекса. В то время в ОКБ основной состав специалистов был занят другими темами, в частности вертолетом Ка-50, сил явно не хватало, и, обсудив сложившуюся ситуацию, Генеральный конструктор принял тяжелое для исполнителей решение — отказаться от роли головного разработчика комплекса, сосредоточив свои усилия только на создании беспилотного вертолета.
В декабре 1988 года оформляется решение Государственной комиссии по военно-промышленным вопросам, по которому головным исполнителем комплекса назначается завод «Горизонт». Разработка беспилотного вертолета и его систем поручалась ОКБ Камова.
В 1988 году в ОКБ закончили подготовку технического предложения беспилотного вертолета с взлетной массой 200 кг и двумя двигателями П-033 взлетной мощностью по 33 л.с. каждый. Техническое задание на двигатель прорабатывалось в течение 1988 года вместе с Куйбышевским КБ моторостроения и после согласования с ЦИАМ было утверждено в мае 1989 года. В 1989–1990 годах была выпущена документация на вертолет и его системы, в том числе на двигатель и редуктор. В конце 1989 года изготовили первые лопасти несущего винта, а в 1990 году — детали двигателей и редукторов в Куйбышеве. Вся конструкторская документация разрабатывалась специалистами нашего филиала. Финансирование разработок, недостаточное с самого начала, постоянно сокращалось и к концу 1990 года прекратилось совсем. Тем не менее в начале 1991 года появилась возможность продолжить работы. Правительство Республики Корея объявило о трех приоритетных направлениях развития своей страны до конца XX века: авиационная промышленность, энергетика и электроника — и выделило большие средства на ускорение их развития. Весной того же года большая корейская делегация приехала в СССР для налаживания технико-экономического сотрудничества. Делегацию принимал заместитель министра авиационной промышленности СССР А.В. Болбот. От ОКБ Камова на одном из проводимых А.В. Болботом совещаний, касающемся сотрудничества в области вертолето-строения, присутствовали В.А. Касьяников и я. Было высказано предложение рассмотреть вопрос о возможном привлечении корейской стороны к разработке беспилотного вертолета. Предполагалось, что по окончании этой работы у каждой из сторон останется по одному экспериментальному вертолету и затем будет подписан полномасштабный контракт на опытно-конструкторские разработки беспилотного вертолета с большим ресурсом и проведение необходимого объема наземных и летных испытаний.
1992 год стал решающим в создании беспилотного вертолета Ка-37. Обсуждая стратегические направления деятельности нашей фирмы и перспективы ее развития, мы вс? больше внимания уделяли беспилотному вертолету, понимая, что за ним будущее. Генеральный конструктор С.В. Михеев постоянно напоминал нам о том, что в XXI веке предстоит воевать робототехническим системам, в связи с этим тенденция к сокращению численности экипажа самолета, вертолета, танка и другой боевой техники станет неизбежной. Именно поэтому беспилотный вертолет должен быть одним из основных приоритетных направлений деятельности фирмы.
В конце года был построен сверхлегкий экспериментальный вертолет соосной схемы Ка-37 с взлетной массой 250 кг. Это беспилотный винтокрылый аппарат для аэрофотосъемки, трансляции теле- и радиосигналов, проведения экологических экспертиз в труднодоступных и опасных для человека местах. Бортовой комплекс Ка-37 обеспечивает полет в автоматическом режиме по заданной программе, полет при управлении с наземного пункта, а также при комбинации этих вариантов.
Большая работа по отработке системы автоматического управления вертолетом была проделана Э.А. Петросяном, который впоследствии в ранге заместителя главного конструктора руководил летными испытаниями и доводкой вертолета Ка-37.
Управление Ка-37 с наземного пункта впервые осуществил летчик-испытатель Н.П. Бездетнов 5 марта 1993 года.
Накопленный опыт позволил специалистам ОКБ в короткие сроки спроектировать многоцелевой беспилотный вертолет Ка-137 для военных и гражданских целей. Этот малоразмерный винтокрылый аппарат может вести разведку в интересах ВМФ и сухопутных войск. Руководство этим направлением работ на фирме возложено на конструктора В.Г. Крыгина, его помощник – ведущий конструктор Ю.В. Шибанов.
На международном салоне МАКС-97, состоявшемся в конце 1997 года в Москве, был представлен макет нового беспилотного вертолета Ка-137 в натуральную величину.
Вертолеты Ка-60 и Ка-62
История создания вертолета Ка-60 отражает поиск Министерством обороны многоцелевого вертолета легкого класса. Эволюция вертолетостроения для Министерства обороны, стремление иметь все более мощные вертолеты привели к тому, что в армии самым массовым и самым «легким» вертолетом оказался вертолет Ми-8.
В ОКБ Камова была проделана огромная работа по выбору компоновочной и аэродинамической схем будущей машины. Решался вопрос о том, каким будет новый вертолет – будет ли он соосным, или одновинтовым, или с какими-либо другими техническими решениями. Впервые на стадии до разработки технического предложения коллективом ОКБ «Камова» были построены несколько моделей, которые прошли продувки в ЦАГИ, проведены ряд расчетов с целью опредления наиболее рациональной схемы.
Вертолет Ка-60 родился и вырос в конкурсной борьбе. После бурных обсуждений проектов ОКБ Камова и ОКБ Миля с участием ЦАГИ, ЦИАМ и заказчика в институтах Министерства обороны остановились на предложении камовцев.
Первоначально Ка-60 проектировался по соосной схеме с одним газотурбинным двигателем мощностью 720 л.с. Омского моторостроительного производственного объединения. В 1982 году был разработан эскизный проект и построен макет вертолета. В обосновании облика нового аппарата и создании макета активное участие принимали конструкторы отдела технических проектов С.В.Лушин, Б.А.Губарев, В.И.Гусев, В.А. Костюченко. В 1985 году появилась новая версия аппарата с двумя двигателями. Однако на этом процесс формирования облика нового вертолета не завершился.
С учетом новых требований заказчика было принято решение отклониться от традиционной для фирмы соосной схемы вертолета и выбрать в качестве предлагаемого проекта схему одновинтового вертолета с рулевым винтом в киле.
В 1986-1987 годах разрабатывается эскизный проект и строится макет вертолета с одним несущим винтом. Таким образом, к моменту утверждения технического задания на многоцелевой вертолет в ОКБ сложилось четкое представление о том, каким должен быть его облик, чтобы он наилучшим образом удовлетворял предъявляемым требованиям, в том числе по крейсерской скорости полета более 300 км/ч.
Новая машина задумывалась конструкторами как оперативное средство обеспечения боевых действий. В перечень выполняемых ею задач включается доставка солдат, оружия, боеприпасов и других грузов, патрулирование, огневой поддержки, эвакуация раненых, а также обучение навыкам пилотирования. То есть вырисовывалась многоцелевая или многофункциональная машина – это рабочая лошадка, которая должна была возить людей, возить грузы в кабине до 1,5 тонн, а на внешней повеске – до 2,5 тонн.
С самого начала вертолет Ка-60 был задуман, как чисто российская боевая машина. То есть двигатель, бортовое оборудование и все агрегаты и системы должны быть российского производства. Для нового вертолета Рыбинскому КБ моторостроения была задана разработка новых современных двигателей РД-600В, мощностью 1300 л.с. Эти двигатели отличаются высокой технологичностью, модульной кострукцией, имеют встроенное пылезащитное устройство, двухканальную автоматическую систему управления и по своим удельным расходам должны соответствовать аналогичным двигателям зарубежных производителей.
Для обеспечения высокого уровня летно-технических характеристик при минимальных затратах на вертолете реализован ряд конструктивно-компоновочных решений. Это низкий силуэт и совершенная аэродинамическая форма фюзеляжа, защищенный рулевой винт, выполненный совместно с килем, позволяющий достигать высоких скоростей полета, снизить опасность травмирования при обслуживании, обеспечить неразрушаемость при взлетах и посадках в редколесье и кустарниках.
Кроме того, вертолет обладает безопасно разрушаемой конструкцией фюзеляжа и взлетно-посадочными опорами с повышенными аммортизационными качествами. Он устойчив к механическим повреждениям и отличается высокой ремонтопригодностью. Это достигается путем изготовления основных агрегатов планера из композиционных материалов.
Многофункциональное обору-дование, которое устанавливается на вертолете, адаптировано к решению самых разных задач. Комплекс многофункцио-нального интегрированного бортового оборудования разработан в КБ «Раменское».
Многофункциональность вертолета достигается также наличием большой транспортной кабины, которая оснащена с двух сторон сдвижными дверями, что позволяет в случае необходимости дооборудовать вертолет любой аппаратурой под те задачи, которые требуется заказчику.
Первоначально ОКБ «Камова» получило задание от Министерства обороны сделать сразу три модификации вертолета – транспортный, боевой и разведчик-целеуказатель. Были оформлены соответствующие технические задания, началось финансирование, но по мере того, как поток средств иссякал, в министерстве обороны приняли разумное решение сделать специализированный вариант, а потом уже дорабатывать его с учетом будущих потребностей. Задача сузилась и ОКБ начало работать над вертолетом специального применения.
В 1990 году завершилось эскизное проектирование и был построен макет вертолета Ка-60 с двигателями РД-600В Генерального конструктора А.С.Новикова. Создается натурный стенд, стенды для испытаний систем и агрегатов, проводятся необходимые ресурсные испытания агрегатов. В середине 90-х годов из цехов опытного завода ОКБ выходят машина для статических испытаний. Строятся два летных образца вертолета – первый предназначен для испытаний силовой установки и трансмиссии, второй – для снятия летнотехнических характеристик до заданных значений.
На разных этапах создания вертолета Ка-60 ведущими конструкторами были Б.А.Губарев, В.В.Костюк. С 1987 года ведущим конструктором по машине стал В.А.Фурман. В 1988 году ведущим конструктором, ответственным за лабораторно-стендовую отработку агрегатов и систем вертолета Ка-60, был назначен А.В.Дудыкин.
В декабре 1999 года вертолет Ка-60 совершил первый полет, на котором присутствовали главком ВВС А.М. Корнуков, командующий армейской авиацией В.Е. Павлов и другие официальные лица.
Техническая политика в вертолетостроении в СССР была традиционно направлена на формирование достаточного типоразмерного рzда гражданских винтокрылых летательных аппаратов с высокими характеристиками, не уступающими зарубежным аналогам. Исторически сложилось так, что в стране существовали вертолеты трех весовых категорий, которые довольно эффективно использовались на рынке авиационных перевозок и работ. Это вертолеты Ка-26 и Ми-2 с взлетной массой до 3,5 т, Ми-4 — до 7,5 т и Ка-32 и Ми-8 — до 11 т. На высоком правительственном уровне было принято решение: вместо вертолета Ми-4 будет применяться строящийся в Польше вертолет W-3, и он станет единым для стран — членов Совета Экономической Взаимопомощи.
В процессе доводки W-3 его взлетная масса значительно возросла, а характеристики ухудшились. Тем не менее, в 1990 году для МГА СССР были заказаны серийные машины.
Вскоре заказ был аннулирован.
Руководство ОКБ Камова понимало, какие последствия имело развертывание производства вертолета с взлетной массой 6 т в Польше. Россия оставалась без вертолета в одной из самых распространенных весовых категорий. Неоднократные обращения в Департамент авиационной промышленности и Министерство гражданской авиации с предложением о создании в России вертолета данной весовой категории (вертолета Ка-62) на словах находили поддержку, но до 1991 года никаких реальных сдвигов в этом направлении не происходило. Когда же Россия отказалась приобретать вертолеты W-3 ситуация изменилась. Немаловажную роль при принятии решения о создании вертолета Ка-62 в России сыграла информация о том, что ОКБ «Камова» успешно занимается разработкой военной машины такого класса — Ка-60. Совместная деятельность с научно-техническим управлением (НТУ) Министерства гражданской авиации принесла свои плоды.
Вертолет Ка-62 проектировался с использованием разработок, выполненных по вертолету Ка-60, тем более, что компоновочные и аэродинамические схемы обеих машин практически не отличаются друг от друга.
День 30 июня 1994 года оказался важным для ОКБ Камова и для вертолетной отрасли страны в целом. В этот день были одобрены и утверждены Авиационным регистром межгосударственного авиационного комитета (АР МАК) следующие документы: Авиационные правила АП-29 и сертификационный базис вертолета Ка-62.
Вертолет Ка-62 стал первым вертолетом России, прошедшим проверку на соответствие Авиационным правилам АП-29. Макетная комиссия подтвердила, что вертолет Ка-62 и двигатель РД-600В удовлетворяют требованиям технического задания, и рекомендовала приступить к этапу проектирования.
К сожалению, затянувшийся процесс крутого пикирования авиационной отрасли в России остановил финансирование этой машины – крайне необходимой для России.